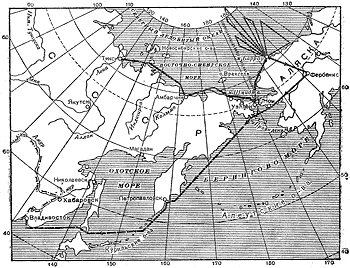| Записки штурмана А. П. Штепенко.
НА АЛЯСКУ
Правительство организовало комиссию для поисков пропавшего экипажа. В Арктику вылетели полярные летчики. По решению комиссии меня включили в экипаж летчика Грацианского. Самолет со дня на день ожидали в Тикси, где я в то время находился. Отсюда мы должны были лететь на Аляску и, базируясь на мыс Барроу, приступить к розыскам. Начал готовиться к полету. Достал карты, подготовил к установке радиопеленгатор, радиостанцию и другие радионавигационные приборы. В последних числах августа в бухте опустилась серебристая амфибия «Н-207». Я обрадовался, что полечу на такой чудесной машине — уж очень она была хороша. Спеша на восток, пилот торопил с заправкой, и мы вскоре оставили Тикси. Самолет был легок в управлении, просторен и вместе с тем уютен. Экипаж его составляли пилот, два механика, радист и я. В сетке дождя низко летим над морем Лаптевых. Мелькают береговые мысы. Крепкий ветер бросает самолет и гонит по морю высокие волны. Болтанка нас мало беспокоит — машина у нас отличная, способная противостоять даже ураганному ветру. Пройдя пролив Дмитрия Лаптева, мы продолжаем полет вдоль берегов Восточно-Сибирского моря. Под нами прошла широко разветвленная дельта реки Индигирки, за ней — устье реки Алазеи. Дождь кончился, низкие облака спускались к самому морю, надвигался туман. Наполнить опустевшие баки горючим мы могли лишь в Амбарчике, в устье реки Колымы. Вечерело. Истекал седьмой час полета. Туман все гуще и ниже. Путь в Амбарчик закрыт. Куда лететь? Ни горючего, ни светлого времени уже нехватает. Под нами мелькают острова и протоки реки Колымы. Пилот убирает газ, и в наступившей тишине слышно, как чиркает лодка по воде и, замедляя бег, останавливается. С рассветом туман рассеялся, воздух огласился птичьим говором. Семействами чинно плывут по реке лебеди и гуси. Стаи уток свистом и криком приветствуют восходящее солнце. Любоваться бы этой картиной да радоваться охотничьей душе, но мысли заняты другим — нельзя терять времени, надо использовать все возможности, чтобы как можно скорее добраться на Аляску и приступить к поискам. Арктика делала все, чтобы ускорить наш перелет. В Амбарчике заправка горючим прошла предельно быстро, и мы, не задерживаясь, полетели дальше на восток. Когда над этими местами я пролетал зимой, и моря, и берега, и горы, и реки — все было похоронено под белым саваном, а теперь волны, взбивая белую пену, плещутся у берегов мыса Баранова. Скалистыми обрывами опускается к морю мыс Шелагский. За мысом Биллингса виднеются могучие вершины гор. Вдали угадываются очертания гор острова Врангеля. В проливе де-Лонга покачиваются на зеленых волнах одинокие голубоватые льдины, а за ними дальше к горизонту белеет кромка сплоченных льдов. От прямой береговой черты Чукотского моря глубоко выдается полуостров с двумя высокими скалистыми утесами — мыс Шмидта. Невдалеке от него на многоводной лагуне, отделенной от моря узкой песчаной косой, заправили самолет, предполагая в тот же день вылететь дальше. Но с моря надвигалась темная туча, поднялся ветер, и шторм разгулялся с такой силой, что даже в лагуне мы не могли покинуть самолет — необходимо было защищать его от яростных волн и свирепого ветра. А самолет, зарывшись носом в песок, крепко привязанный к берегу, вздрагивал при порывах ветра, будто скучая по воздуху, рвался в родную стихию. Глядя на него, на небо и на море, рвались и мы подальше от недружелюбных волн. Вылетели мы только через три дня. В районе мыса Дежнева низкая облачность преградила дальнейший путь на Аляску. Не зная погоды на мысе Барроу из-за отсутствия с ним связи, решили сделать посадку на лагуне у поселка Уэлен. Связавшись с ледоколом «Красин», который находился в то время во льдах к северу от Барроу, мы узнали, что ледокол обеспечивал полеты Задкова и Падалко на летающей лодке «Н-2». Мы также узнали, что самолет «Н-2» по розыску Леваневского там же и базировался в открытом океане, возле «Красина». Сплошной туман в районе Барроу заставил нас задержаться в Уэлене. Мы не теряли зря времени и продолжали работу по дооборудованию самолета для длительных полетов над океаном: поставили второй радиопеленгатор (установленный на самолете пеленгатор с неподвижной рамкой всех задач навигации не решал), еще один компас, дополнительные бензиновые баки, устроили приспособление для перекачки горючего, запуска моторов и отопления кабины. Коварен сентябрь в Арктике. Хмуро и грозно небо. Жестокая борьба начинается между летом и зимой. Дождь чередуется со снегом, густые туманы — со страшными штормами. Редко солнечный луч мелькнет, прочертит светлую полоску на море и исчезнет. Дождавшись погоды, вылетаем. Первым встречает нас на Аляске мыс Хоп... За ним проходим мимо гранитного мыса Лисбурн. Дальше на северо-восток идем вдоль берега, отмечая небольшие мысы, лагуны, речки и редкие эскимосские поселки. Справа земля, под нами вода, а на горизонте слева белеют в океане льды. Вот там, далеко на севере, придется нам бороздить воздух и искать маленькую точку, затерявшуюся в ледовой пустыне, — машину Леваневского. Через пять часов полета достигли мыса Барроу. Посадочных знаков никаких. Пилот виражит, высматривая место, и решает итти на посадку в лагуне. Заходим далеко в море. Издали кажется, что невозможно посадить тяжелый самолет на такое маленькое место. Пилот выравнивает машину у самого берега. Разрезав острым килем воду, лодка достает песчаное дно и бежит по воде. Места по прямой линии не хватает, и пилот круто разворачивает самолет у самого берега. Среди встретивших нас людей было несколько американцев, много эскимосов.
Из летавших на поиски со стороны Аляски только командир советской летающей лодки Задков без шума делал все, что было в его силах и возможностях. Но после того как, совершив четыре полета над океаном, самолет Задкова, раздавленный льдами (Задков в основном базировался в открытом океане, среди дрейфующих льдов, у ледокола «Красин».) пошел ко дну, на Аляске не оставалось ни одного самолета. Лагуна, где мы сделали посадку, для взлетов с полной бензиновой загрузкой оказалась явно непригодной. Пришлось организовать доставку горючего на новую базу в семи километрах от поселка. Готовя самолет к дальним полетам в океан, механики заклепали днище, поврежденное при посадке. Прогнозы погоды приходили ежедневно из Фербенкса (от М. В. Белякова) и с ледокола «Красин», находившегося в то время в море Бофорта, к северу от Барроу. Ранним безоблачным утром мы взлетели со своей небольшой «посадочной» лагуны. Крепкий ветер с моря помог быстро оторваться от воды. Через несколько минут опустились на большой лагуне и сразу же приступили к заправке самолета. Солнце только вставало, когда мы снова поднялись в воздух, направляясь на север, в океан. У берега узкая полоска воды, потом редкие разбросанные льды, а дальше — плотный лед с отдельными трещинами и разводьями, выступающими темными пятнами на белой поверхности. Близость магнитного полюса причиняла много беспокойств пилоту и не позволяла ориентировать курс самолета по магнитному компасу. Крутится картушка вокруг своей оси, редкие моменты стоит неподвижно. Не успеет пилот установить указатель курса по компасу, как снова получается такая чепуха, что пилот только плечами пожимает. Приходится стоять сзади и все время исправлять курс самолета, отклоняющегося в сторону в результате попыток угнаться за беспокойной картушкой. Пилот все указания выполняет беспрекословно, но в душе его, должно быть, живет сомнение: а вдруг залетим черт знает куда! Оба механика неотрывно наблюдают за океаном, льдами, всеми тенями и пятнами. Радист занят связью и пеленгацией, я - астрономией и прокладкой пути, пилот — управлением самолета и молчаливой, упорной борьбой с непослушным компасом. Не пришлось нам в этот день выполнить намеченный план полета — помешал туман. Он скрыл от нас ледяную поверхность океана. Убедившись, что туман занимает огромную площадь, мы пытались было снизиться, но из этого ничего не вышло — не оставалось даже самого маленького просвета между льдами и густой пеленой тумана. Мы вынуждены были повернуть обратно. Беспокойно смотрит пилот вперед, но, убедившись, что самолет идет прямо на Барроу, крепко пожимает мне руку. Ледок недоверия к моим штурманским указаниям, видимо, растаял окончательно. К месту вылета прибыли с помощью радиопеленгации. В этот же день летал в океан Вилкинс. Это был его последний полет. В американском секторе Арктики для розысков Леваневского остался лишь один наш самолет. Существенную помощь оказывал нам ледокол «Красин». Получая от него регулярные сводки, мы могли детально разбираться в обстановке, а его мощная радиостанция давала возможность ориентироваться даже в самых отдаленных точках океана. Вдали от Родин» мы чувствовали себя уверенно и допускали в своей работе некоторую долю риска в значительной мере потому, что «Красин» с его экипажем — эта маленькая частица Родины — был рядом с нами. Надвигалась зима, льды подошли к самым берегам. В разводьях появился молодой лед. Дольше в этих местах «Красину» оставаться нельзя. Ледокол получил приказание вернуться к родным берегам. Остались совсем одни. Четыре длительных полета в глубь океана мы совершили, рассчитывая только на собственные силы. Единственным нашим верным помощником оставалось солнце; оно ни разу не отказывало в своей поддержке. С каждым полетом удлиняли мы свой путь на север, расширяли площадь поисков. При каждом возвращении с полета все меньше горючего оставалось в баках нашего самолета. Укорачивался полярный день. Все ниже и ниже поднималось над горизонтом бледное, холодное солнце. Неужели придется согласиться с тем, что человеческий ум и воля пока еще бессильны в борьбе с арктической природой, с ледяными нагромождениями, хранящими в себе тайну гибели наших отважных людей? Сколько раз рассеянный свет над ледяной тысячекилометровой пустыней создавал на поверхности такую игру теней, что у нас останавливалось сердце и замирало дыхание. Сколько раз принимали мы эти непонятные тени то за группу людей, то за силуэт полузасыпанного снегом самолета. Бывало, что над Барроу в наших баках оставалось бензина ровно столько, сколько нужно было, чтобы дорулить до стоянки. Так рисковать никто нам не разрешал, но совесть требовала использовать свои возможности и возможности самолета до последнего предела. А в следующий полет мы брали еще одну лишнюю бочку горючего. На взлете самолет подолгу не мог оторваться от цепко присосавшейся к лодке воды. И когда все же отрывался, нам казалось, что уж с таким количеством бензина мы наверное дойдем до того места, где должен быть самолет Леваневского. С каждым новым вылетом все уверенней протекали наши полеты. К беспокойному поведению магнитного компаса мы привыкли, его показаниями пользовались лишь в редкие моменты при абсолютно устойчивом положении самолета. С достаточной для наших целей точностью овладели астрономией. Возврат на аэродром обеспечивался радиопеленгатором, установленным нами еще в Уэлене. При пеленговании станции Барроу я часто благословлял ту минуту, когда мне пришло в голову на всякий случай взять на самолет радиопеленгатор с вращающейся рамкой. Не будь его, тяжело было бы нам решать сложные задачи полетов в районах, где на магнитный компас нельзя положиться. Внимательно присматриваясь к ледяной поверхности и изучая всевозможные оттенки от нагромождений торосов, мы уже знали, где тень, где свежая трещина, где молодой лед. В один из полетов, когда мы были ближе всего к полюсу и к месту, где предполагалась посадка Леваневского, выдалась благоприятная для розысков погода. Воздух был чист и прозрачен, видимость беспредельная. Мириадами сверкающих кристаллов искрился на солнце снег. Белели ровные поля пакового льда. На торосистых полях переплетались причудливые тени. Голубая даль чистого горизонта манила нас все вперед и вперед, все дальше на север. Близость полюса влекла нас. Не хотелось думать ни о бензине, ни о времени полета, перевалившего за половину расчетного. Если бы увидели тогда экипаж Леваневского, — не задумываясь, повели бы свой самолет на посадку... Но кругом ни одной точки на горизонте, ни живого существа, ни лунки морского зверя, ни следа на снегу. Как быстро тает бензин в баках! Меньше половины осталось. Манит к себе линия горизонта, но расстояние до нее не меняется, сколько мы ни движемся вперед. По нашим расчетам, на обратном маршруте должен был дуть попутный ветер. Вот за его счет и можно было бы еще немного пройти. Но все же пора... Неохотно разворачивается самолет, покидая манящий курс к полюсу. Расстаемся — в который раз! — с надеждой найти потерпевшего бедствие товарища... Кончилось горючее, остановились моторы, не на что подрулить к месту своей стоянки. Закрепив самолет посреди большой лагуны на якоре, мы привозим на клиперботе бочку горючего. Только после этого подводим машину к берегу. Два дня дула пурга. Ветер в поселке намел сугробы снега. На третий день стихло, и мороз сковал лагуну льдом. Решив продолжать полеты на колесах с сухопутного аэродрома, мы нашли в тундре подходящее место, притащили трактором самолет и, очистив поле от кочек, начали проверять взлет и посадку с нашего кустарного аэродрома налегке, с малым полетным весом. Но из Москвы пришло распоряжение прекратить полеты по розыскам и возвратиться в Советский Союз. Зима была уже полновластным хозяином на Барроу. Термометр доказывал двадцать градусов ниже нуля. Завтра может подняться пурга, переметет сугробами снега аэродром и отрежет нас на девять месяцев от Большой Земли. Близилась полярная ночь. Надо вылетать. Высокие, необитаемые горы Эндикот, многоводная с извилистыми, крутыми берегами река Юкон. Пролетаем над местами, знакомыми по произведениям Джека Лондона. Издали, за сотни километров, увидели, самую высокую на Аляске гору Мак-Кинлей. Через пять часов полета мы опустились в столице Аляски — Городе Фербенксе. Встречал нас на аэродроме Михаил Васильевич Беляков. Войдя в самолет, он, по русскому обычаю, расцеловался с каждым членом экипажа. На душе стало грустно и всплыли все сомнения: все ли мы сделали, что могли? Все ли возможности использовали? Мы ведь понимали, что целовал нас Беляков за то, что мы были там, близко возле места падения самолета, и верил: если не нашли экипажа, то значит и невозможно было его найти... В середине ноября мы направились к родным берегам — к Чукотке. Вначале шли вдоль извилистой реки Тананы, а затем Юконом, течение которого совпадало с направлением нашего полета с востока на запад. У форта Нулато Юкон круто повернул на юг, а мы, следуя прямым курсом, пересекли небольшую горную цепь и пролетели над заливом Нортон и городом Ном. Пройдя Берингов пролив, передвинули дату на один день вперед и через пять с половиной часов полета опустились в бухте Провидения. Несмотря на то что свыше восьми тысяч километров отделяло нас от Москвы, мы, ступив на нашу русскую землю, всем сердцем своим ощутили теплоту родного дома.
далее: К дрейфующим кораблям |
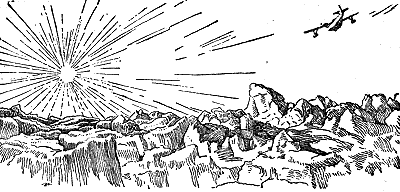 Высоко в небе за густым слоем мрачных облаков прогудели над Северным полюсом моторы тяжелого самолета. Потом радио оборвалось, и ни одному радисту мира больше не удалось обнаружить в эфире позывных «РЛ» самолета Леваневского.
Высоко в небе за густым слоем мрачных облаков прогудели над Северным полюсом моторы тяжелого самолета. Потом радио оборвалось, и ни одному радисту мира больше не удалось обнаружить в эфире позывных «РЛ» самолета Леваневского.