Тут такое дело. история длинная очень, не буду пересказывать полностью. В общем, на выставке в музейно-выставочном комплексе им. И.С. Шемановского (г. Салехард), посвященная 70-летию Победы, открыта экспозиция по истории конвоя БД-5. Там есть портрет М.И. Козлова, переданный сыном двух участников конвоя БД-5 - Виталием Эльцековием Морозовым. На портрете есть надпись. Автор портрета - художник В.И. Масленников (за сведениями об авторе подпись - из истории Отечественной войны). Стоит дата - 09.05.1949 год. Виталий Иванович Масленников летал вместе с Матвеем Ильичем Козловым, судя по публикации http://www.polarpost.pro/forum/viewtopi ... 8826#p4192 http://www.sevkray.ru/news/9/4294/ http://kid-book-museum.livejournal.com/981032.html
В других публикациях написано о Виталии Ивановиче, что он учился в Суриковском училище.
Меня мучает вопрос: автор портрета М.И. Козлова В.И. Масленников не Герой Советского Союза Виталий Иванович Масленников?
Картины Героя Советского Союза В.И. Масленникова есть здесь http://101aviapolk.ru/index/kartiny_mas ... a_v_i/0-68
Где можно найти родственников В.И. Масленникова для выяснения авторства?
Масленников Виталий Иванович (1908-1983)
Сообщений: 27
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Масленников Виталий Иванович (1908-1983)
Кто умер, но не забыт, тот бессмертен. Тот, кто не дал забыть, – сам сделал шаг к бессмертию.
-
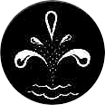
Сергей Шулинин - Редактор

- Сообщения: 3184
- Зарегистрирован: 07 Июнь 2008 16:34
- Откуда: г. Салехард
Масленников Виталий Иванович (1908-1983)
Картины Героя Советского Союза Масленникова В.И. со страницы http://101aviapolk.ru/index/kartiny_mas ... a_v_i/0-68







Фотоальбом по Масленникову здесь http://101aviapolk.ru/photo/fotoalbom_m ... kova_v_i/9







Фотоальбом по Масленникову здесь http://101aviapolk.ru/photo/fotoalbom_m ... kova_v_i/9
Кто умер, но не забыт, тот бессмертен. Тот, кто не дал забыть, – сам сделал шаг к бессмертию.
-
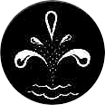
Сергей Шулинин - Редактор

- Сообщения: 3184
- Зарегистрирован: 07 Июнь 2008 16:34
- Откуда: г. Салехард
Масленников Виталий Иванович (1908-1983)
Не представляю, как это рисовать маслом при -40? Действительно талант!
У походного мольберта с зонтом (зонт служит защитой от "хиуса"-ветра с полюса и световых теней) и карабином пишет Масленников этюды при минус 40гр. на дрейфующей
станции "Северный полюс-11" льдину которую иследовал в 1962 году.
-

Polarstern - Редактор

- Сообщения: 777
- Зарегистрирован: 01 Январь 1970 03:00
- Откуда: Москва/Сент-Джонс, Ньюфаундленд
Масленников Виталий Иванович (1908-1983)
Не спорю, талант! Но кто ответит на мои вопросы?
Кто умер, но не забыт, тот бессмертен. Тот, кто не дал забыть, – сам сделал шаг к бессмертию.
-
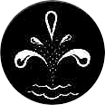
Сергей Шулинин - Редактор

- Сообщения: 3184
- Зарегистрирован: 07 Июнь 2008 16:34
- Откуда: г. Салехард
Масленников Виталий Иванович (1908-1983)
По предварительным оценкам художников портрет М.И. Козлова, находящийся на выставке в МВК им. И.С. Шемановского, и работы, размещенные выше, сделаны одним художником. Схожа манера и техника письма. Но эти оценки предварительны и все сходятся в том, что надо проводить государственную экспертизу. Было замечено также, что автор не самоучка, а проходил специализированное обучение. Уже кое-что.
Кто умер, но не забыт, тот бессмертен. Тот, кто не дал забыть, – сам сделал шаг к бессмертию.
-
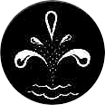
Сергей Шулинин - Редактор

- Сообщения: 3184
- Зарегистрирован: 07 Июнь 2008 16:34
- Откуда: г. Салехард
Масленников Виталий Иванович (1908-1983)
Экипаж летчика В.И. Масленникова на льдине у СП-10. Фото Б.Вдовенко.
- Dobrolet
- Редактор

- Сообщения: 1542
- Зарегистрирован: 13 Май 2009 15:09
Масленников Виталий Иванович (1908-1983)
Приличную фотографию Героя никто не пытался найти?
© OCR, правка ББК-10 и Леспромхоз
-

ББК-10 - Редактор

- Сообщения: 12408
- Зарегистрирован: 05 Ноябрь 2014 17:53
Масленников Виталий Иванович (1908-1983)
Иван Кукушкин пишет:Награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Александра Невского, двумя – Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды и многими медалями. После увольнения в запас Виталий Иванович работал в Полярной авиации и Гражданском Воздушном Флоте. Жил в Москве.
Уважаемый И.Е. Негенбля в книге «Над безграничной Арктикой» часть 2 пишет иначе:
© OCR, правка ББК-10 и Леспромхоз
-

ББК-10 - Редактор

- Сообщения: 12408
- Зарегистрирован: 05 Ноябрь 2014 17:53
Масленников Виталий Иванович (1908-1983)
© OCR, правка ББК-10 и Леспромхоз
-

ББК-10 - Редактор

- Сообщения: 12408
- Зарегистрирован: 05 Ноябрь 2014 17:53
Масленников Виталий Иванович (1908-1983)
По поводу наград стоит, наверное, обратиться к сведующим людям. На этом сайте http://www.krskstate.ru/pobeda/heros/0/id/17175 и некоторых других повторяется одна и та же информация: Награждён четырьмя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.
Есть даже перечисление медалей: медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», хотя, мне кажется, что он не полный.
На сайтах написано, что ряд биографических данных предоставлен С. Кащеевым (г. Вольск). На странице http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12431 указано, что биография предоставлена Л.Е. Шейнманом (г. Ижевск). Можно у них спросить.
С последней страницы информация:
мне напомнила об этой книжке С.Я. Маршака http://kid-book-museum.livejournal.com/981032.html
Я хотел связаться с человеком, кто мог бы дать информацию по Масленникову, но, увы, его контакты где-то затерялись при перезагрузках мобильников. Я ему написал на электронку, жду пока ответа. Он мне ранее говорил, что есть подозрения, что картины Масленникова, как бы это поаккуратнее сказать, могут уйти в неизвестность.
Художники сказали мне, что рисовать на морозе можно, главное умение и сноровка, нет не прав, самое главное - иметь керосин при себе. А уж потом умение и сноровка.
Есть даже перечисление медалей: медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», хотя, мне кажется, что он не полный.
На сайтах написано, что ряд биографических данных предоставлен С. Кащеевым (г. Вольск). На странице http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12431 указано, что биография предоставлена Л.Е. Шейнманом (г. Ижевск). Можно у них спросить.
С последней страницы информация:
21 июня 1946 года. Московский радиоцентр Главного управления Северного морского пути получил тревожную радиограмму: тяжело ранен метеоролог полярной станции на Земле Бунге Новосибирского архипелага (море Лаптевых); нужна срочная операция. Но как доставить хирурга на крохотный островок? Хирурга решено сбросить на парашюте.
29 июня на летающей лодке с бортовым номером СССР Н-341, взлетевшей с Химкинского водохранилища, экипаж, в составе которого был В.И.Масленников, преодолев почти 7000 километров над тундрой, 1 июля достиг острова. Хирург П.И.Буренин был сброшен на полярную станцию.
29 июня на летающей лодке с бортовым номером СССР Н-341, взлетевшей с Химкинского водохранилища, экипаж, в составе которого был В.И.Масленников, преодолев почти 7000 километров над тундрой, 1 июля достиг острова. Хирург П.И.Буренин был сброшен на полярную станцию.
мне напомнила об этой книжке С.Я. Маршака http://kid-book-museum.livejournal.com/981032.html
Я хотел связаться с человеком, кто мог бы дать информацию по Масленникову, но, увы, его контакты где-то затерялись при перезагрузках мобильников. Я ему написал на электронку, жду пока ответа. Он мне ранее говорил, что есть подозрения, что картины Масленникова, как бы это поаккуратнее сказать, могут уйти в неизвестность.
Художники сказали мне, что рисовать на морозе можно, главное умение и сноровка, нет не прав, самое главное - иметь керосин при себе. А уж потом умение и сноровка.
Кто умер, но не забыт, тот бессмертен. Тот, кто не дал забыть, – сам сделал шаг к бессмертию.
-
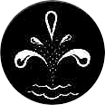
Сергей Шулинин - Редактор

- Сообщения: 3184
- Зарегистрирован: 07 Июнь 2008 16:34
- Откуда: г. Салехард
Масленников Виталий Иванович (18.04.1908-21.03.1983)
Известия, 1983, № 340 (20686), 6.12.1983
Арктика: ШТУРВАЛ И ПАЛИТРА
«Известия» уже рассказывали о чрезвычайной ледовой обстановке, сложившейся в начале октября в восточном районе Арктики у берегов Чукотки. В плену у стихии оказался большой караван транспортных судов. И все же, как ни велики были ее силы, они преодолены.
Отдавая дань мужеству полярников, сегодня нельзя не вспомнить людей старших поколений, чей богатый опыт освоения Арктики несомненно сказался и в эту суровую навигацию. Многих из них хорошо знал ветеран «Известий» Савва Морозов. Сегодня он рассказывает о своих встречах в Арктике.
При последней нашей встрече в Географическом обществе он шутя упрекнул меня:
— Долго ты ко мне собираешься. Неужели до Речного вокзала дальше, чем до полюса?..
У Речного вокзала в Москве жил тогда Виталий Иванович Масленников, полярный летчик, Герой Советского Срюза, человек, влюбленный в Арктику и живопись. А вспомнил он о Северном полюсе, о «точке земной оси», где привелось мне быть с экипажем Масленникова в апреле 1948 года и заслужить там почетное избрание на должность экспедиционного кока.
Дел на льдине хватало всем — от командира до радиста. И корреспондент «Известий», чтобы не оказаться тунеядцем, занялся приготовлением пищи на всю честную компанию. Утверждая меня в должности, Виталий Иванович сказал:
— Работа не писательская, хлопотная, грязная... Однако будут тебе помогать дневальные кухонные мужики: завтра — я самолично, послезавтра — Мих-Мих.
Наш гидролог Михаил Михайлович Сомов (впоследствии Герой Советского Союза и первопроходец Антарктиды) был тогда озабочен установкой лебедки над лункой, только что пробитой во льду. Он кивком подтвердил слова командира, который занимался тем временем своим «художественным промыслом»: снаружи палатки приладил мольберт, внутри — разжигал примус для обогрева красок, леденеющих на морозе.
Так вот и началась наша полюсная вахта, рассчитанная на трое суток. Однако уже в последующие два дня мне, коку, так и не привелось испытывать в роли кухонных мужиков ни Сомова, ни Масленникова. Внезапная подвижка льдов превратила наш лагерь, над которым высился Государственный флаг СССР, в ледяное крошево — грозила поглотить и палатки наши, и машину, и нас самих.
Мы все же успели выполнить работы, намеченные по программе. Взлетали с обломков, максимально облегчив машину, для чего понадобилось слить часть горючего, выбросить баллон с газом, столь драгоценным для отопления палатки, и все остальные тяжести, в числе коих оказалось «живописное хозяйство» отца-командира. Не до жиру — быть бы живу!
Этюд, посвященный высадке на полюсе, был все же дописан, правда, дома в Москве, когда Виталий Иванович заканчивал полный курс студии при Суриковском институте. А там появилась и однокомнатная квартирка, куда можно было перебраться со старушкой матерью. О более обширных апартаментах Виталий — убежденный холостяк, чистейшей воды бессребреник — и не мечтал.
Мы оба — москвичи, продолжали дружить, встречаясь, как это ни странно, главным образом в Арктике.
Из арктических «послеполюсных» встреч запомнился мне один, теперь тоже давний полет над Карским морем в ледовой разведке. Виталий Иванович, к тому времени готовившийся к выходу на пенсию, был на борту машины инструктором-наставником при молодом пилоте. Когда подлетали к острову Белуха, несколько раз приказывал инструктор снижаться до бреющего. Напряженно вглядываясь вниз, Масленников делал карандашные зарисовки в альбоме.
— Надеюсь, тебе понятно любопытство мое к здешним местам, — вымолвил он, обращаясь ко мне.
Как не понять!.. Кто из полярников не знает, что здесь, у острова Белуха, 25 августа 1942 года ледокольный пароход «Сибиряков», вооруженный единственной пушчонкой, принял неравный бой с фашистским тяжелым крейсером «Адмирал Шеер». Ценой собственной гибели сибиряковцы спасли тогда караван наших судов, которые, успев войти в лед, стали недосягаемы для фашистских пиратов. Мне привелось как раз в те дни, в конце августа 1942 года, быть на эсминце «Гремящий» близ Новой Земли. Своими глазами читал я радиограммы Сибиряковского капитана Анатолия Алексеевича Качаравы, последние вести от него, израненного... Пройдя ад плена, Качарава впоследствии долгие годы плавал в северных и южных водах, был начальником Грузинского пароходства. Между собой друзья-полярники называли его «Черкесом».
... Продолжая зарисовки карандашом, Масленников говорил мне:
— Хороший он мужик, Черкес... Вот напишу картину «Бой «Сибирякова» с «Шеером» и обязательно ему подарю. Увидишь его раньше — кланяйся.
Год спустя я был в Одессе. Отсюда Качарава уводил океанский транспорт на Кубу. Передав ему привет от Масленникова, я услышал в ответ:
— Спасибо деду Мазаю. Окажусь в Москве, обязательно к нему в мастерскую нагряну.
Как вы догадались, «дед Мазай» — дружеское прозвище Масленникова, известное всем, кто плавал и летал в Арктике.
Сегодня, горько это сознавать, нет больше в живых ни «Черкеса», ни «деда Мазая»... Позапрошлой весной весь Батуми провожал в последний путь начальника Грузинского пароходства Анатолия Алексеевича Качараву. А еще через год полярники-москвичи навсегда прощались с Виталием Ивановичем Масленниковым.
В тесной квартирке у Речного вокзала, завешанной живописными холстами, заставленной подрамниками, я разглядываю пейзажи Арктики, знакомые лица на портретах. И думаю о том, что долговечны краски. Но еще долговечнее память о людях, посвятивших себя Арктике, Родине.
Далекое—близкое
Арктика: ШТУРВАЛ И ПАЛИТРА
«Известия» уже рассказывали о чрезвычайной ледовой обстановке, сложившейся в начале октября в восточном районе Арктики у берегов Чукотки. В плену у стихии оказался большой караван транспортных судов. И все же, как ни велики были ее силы, они преодолены.
Отдавая дань мужеству полярников, сегодня нельзя не вспомнить людей старших поколений, чей богатый опыт освоения Арктики несомненно сказался и в эту суровую навигацию. Многих из них хорошо знал ветеран «Известий» Савва Морозов. Сегодня он рассказывает о своих встречах в Арктике.
При последней нашей встрече в Географическом обществе он шутя упрекнул меня:
— Долго ты ко мне собираешься. Неужели до Речного вокзала дальше, чем до полюса?..
У Речного вокзала в Москве жил тогда Виталий Иванович Масленников, полярный летчик, Герой Советского Срюза, человек, влюбленный в Арктику и живопись. А вспомнил он о Северном полюсе, о «точке земной оси», где привелось мне быть с экипажем Масленникова в апреле 1948 года и заслужить там почетное избрание на должность экспедиционного кока.
Дел на льдине хватало всем — от командира до радиста. И корреспондент «Известий», чтобы не оказаться тунеядцем, занялся приготовлением пищи на всю честную компанию. Утверждая меня в должности, Виталий Иванович сказал:
— Работа не писательская, хлопотная, грязная... Однако будут тебе помогать дневальные кухонные мужики: завтра — я самолично, послезавтра — Мих-Мих.
Наш гидролог Михаил Михайлович Сомов (впоследствии Герой Советского Союза и первопроходец Антарктиды) был тогда озабочен установкой лебедки над лункой, только что пробитой во льду. Он кивком подтвердил слова командира, который занимался тем временем своим «художественным промыслом»: снаружи палатки приладил мольберт, внутри — разжигал примус для обогрева красок, леденеющих на морозе.
Так вот и началась наша полюсная вахта, рассчитанная на трое суток. Однако уже в последующие два дня мне, коку, так и не привелось испытывать в роли кухонных мужиков ни Сомова, ни Масленникова. Внезапная подвижка льдов превратила наш лагерь, над которым высился Государственный флаг СССР, в ледяное крошево — грозила поглотить и палатки наши, и машину, и нас самих.
Мы все же успели выполнить работы, намеченные по программе. Взлетали с обломков, максимально облегчив машину, для чего понадобилось слить часть горючего, выбросить баллон с газом, столь драгоценным для отопления палатки, и все остальные тяжести, в числе коих оказалось «живописное хозяйство» отца-командира. Не до жиру — быть бы живу!
Этюд, посвященный высадке на полюсе, был все же дописан, правда, дома в Москве, когда Виталий Иванович заканчивал полный курс студии при Суриковском институте. А там появилась и однокомнатная квартирка, куда можно было перебраться со старушкой матерью. О более обширных апартаментах Виталий — убежденный холостяк, чистейшей воды бессребреник — и не мечтал.
Мы оба — москвичи, продолжали дружить, встречаясь, как это ни странно, главным образом в Арктике.
Из арктических «послеполюсных» встреч запомнился мне один, теперь тоже давний полет над Карским морем в ледовой разведке. Виталий Иванович, к тому времени готовившийся к выходу на пенсию, был на борту машины инструктором-наставником при молодом пилоте. Когда подлетали к острову Белуха, несколько раз приказывал инструктор снижаться до бреющего. Напряженно вглядываясь вниз, Масленников делал карандашные зарисовки в альбоме.
— Надеюсь, тебе понятно любопытство мое к здешним местам, — вымолвил он, обращаясь ко мне.
Как не понять!.. Кто из полярников не знает, что здесь, у острова Белуха, 25 августа 1942 года ледокольный пароход «Сибиряков», вооруженный единственной пушчонкой, принял неравный бой с фашистским тяжелым крейсером «Адмирал Шеер». Ценой собственной гибели сибиряковцы спасли тогда караван наших судов, которые, успев войти в лед, стали недосягаемы для фашистских пиратов. Мне привелось как раз в те дни, в конце августа 1942 года, быть на эсминце «Гремящий» близ Новой Земли. Своими глазами читал я радиограммы Сибиряковского капитана Анатолия Алексеевича Качаравы, последние вести от него, израненного... Пройдя ад плена, Качарава впоследствии долгие годы плавал в северных и южных водах, был начальником Грузинского пароходства. Между собой друзья-полярники называли его «Черкесом».
... Продолжая зарисовки карандашом, Масленников говорил мне:
— Хороший он мужик, Черкес... Вот напишу картину «Бой «Сибирякова» с «Шеером» и обязательно ему подарю. Увидишь его раньше — кланяйся.
Год спустя я был в Одессе. Отсюда Качарава уводил океанский транспорт на Кубу. Передав ему привет от Масленникова, я услышал в ответ:
— Спасибо деду Мазаю. Окажусь в Москве, обязательно к нему в мастерскую нагряну.
Как вы догадались, «дед Мазай» — дружеское прозвище Масленникова, известное всем, кто плавал и летал в Арктике.
Сегодня, горько это сознавать, нет больше в живых ни «Черкеса», ни «деда Мазая»... Позапрошлой весной весь Батуми провожал в последний путь начальника Грузинского пароходства Анатолия Алексеевича Качараву. А еще через год полярники-москвичи навсегда прощались с Виталием Ивановичем Масленниковым.
В тесной квартирке у Речного вокзала, завешанной живописными холстами, заставленной подрамниками, я разглядываю пейзажи Арктики, знакомые лица на портретах. И думаю о том, что долговечны краски. Но еще долговечнее память о людях, посвятивших себя Арктике, Родине.
Савва МОРОЗОВ,
член Географического общества СССР,
почетный полярник.
член Географического общества СССР,
почетный полярник.
© OCR, правка ББК-10 и Леспромхоз
-

ББК-10 - Редактор

- Сообщения: 12408
- Зарегистрирован: 05 Ноябрь 2014 17:53
Сообщений: 27
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6