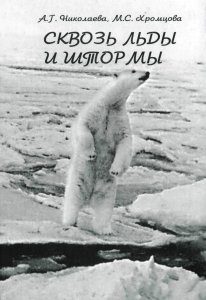Из книги воспоминаний Марии Сергеевны Хромцовой (жены капитана Н. И. Хромцова) в сооавторстве с А.Г. Николаевой "Сквозь льды и штормы". Архангельск. ИПП "Правда Севера". изданной в 2004 Архангельским литературным музеем
(директор Борис Егоров ).
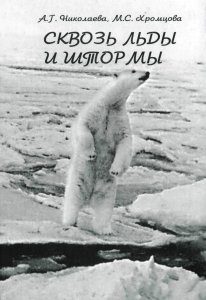
Ледовыми трассами
Маяк Инцы сегодня

За 65-й параллелью, недалеко от Северного полярного круга, в горле Белого моря стоит на скалистом мысу маяк Инцы. Похож он издали на средневековый замок. Места здесь суровые и дикие. Вплотную подступили к мысу болотистые леса, а на прибрежные камни набегают холодные серые волны, оставляя на берегу кружевную пену. Каждую ночь зажигаются на маяке огни, предупреждая проходящие мимо суда об опасности.
В 1893 году с острова Мудьюг на маяк Инцы прибыл смотритель Иван Васильевич Хромцов с женой Калистой Ивановной. Здесь, на маяке, и родился 22 марта 1902 года восьмой по счету ребенок в семье - Николай. До девяти лет он жил с родителями на маяке. Его отец, как и все поморы, был прирожденным охотником и рыбаком. Пошел по стопам отца и старших братьев и Николай. В семь лет он уже самостоятельно ходил на охоту. Тяжелое охотничье ружье отца таскал за собой волоком, забирался в болото и, пристроившись у кочки, стрелял из ружья уток. Стрелял он хорошо и без добычи не возвращался.
Сначала Николай учился в деревне Нижняя Золотица в церковно-при-ходской школе, а в 1911 году отец отвез его в Архангельск. Там он поступил в городское училище, в котором проучился до 1913 года.
Несчастливым оказался этот год для большой поморской семьи.
Смотрители маяка... На первый взгляд профессия эта тихая, незаметная. А между тем зачастую им приходится с риском для собственной жизни спасать людей, терпящих бедствие в море. Случилось такое и вблизи маяка Инцы. Спасая рыбаков с большого парусника, выброшенного штормом на камни, погиб смотритель маяка Иван Васильевич Хромцов, в возрасте 58 лет. Он оставил на руках Калисты Ивановны шесть дочерей и пять сыновей, младшему из которых только что исполнился год. Эта мужественная женщина, вырастившая одиннадцать детей, стала первой женщиной-смотрителем маяка на Белом море.
Когда погиб отец, Николаю едва исполнилось одиннадцать. Проучившись в Архангельске в городском училище два года, он вынужден был его оставить, так как мать не имела средств содержать сына. Уже в девятилетнем возрасте Николай познакомился с морем по-настоящему: каждое лето плавал зуйком на парусных судах. С четырнадцати лет рослый и сильный парень стал плавать на парусниках уже матросом. На пожелтевших от времени листах его мореходной книжки видны названия старых парусных судов: «Отважный», «Решительный», «Бесстрашный»... Названия эти как бы отражали те качества, которыми должен был обладать моряк, плавающий на них.
Поднакопив денег, Николай поступил в Патракеевскую мореходную школу, но проучился в ней только год. Подрастали младшие братья и сестры большой семьи Хромцовых, мать нуждалась в помощи, и молодой помор снова устроился матросом на небольшой трехсоттонный грузопассажирский пароход «Антоний». В 1921 году ему удалось поступить матросом на ледокольный пароход «А.Сибиряков», на котором плавал в Белом Баренцевом морях. Через год Николай Хромцов в должности матроса 1 класса на ледокольном пароходе «Владимир Русанов» побывал в порт Лондона и Ярмута, а затем в Гамбурге, куда пароход ушел на ремонт.
В следующем, 1923 году Николай Иванович Хромцов на «Русанове» стал участником Карской экспедиции к устьям Оби и Енисея под начальством известного гидрографа Бориса Александровича Вилькицкого.
В 1924 году он призван в Балтийский морской военный флот. За пять лет службы молодой краснофлотец окончил по первому разряду школу подводного плавания в Ленинграде. Его оставили при школе инструктором. Он продолжал учебу на вечернем судоводительском отделении Ленинградского морского техникума. Окончив его, получил диплом штурмана дальнего плавания. Исполнилась давнишняя мечта поморского мальчишки - он стал судоводителем.
После демобилизации в 1929 году Николай Иванович вернулся в Архангельск и в декабре того же года поступил на ледокольный пароход «А.Сибиряков», на должность старшего помощника капитана. На нем он летом 1930 года побывал в Русской Гавани на Новой Земле, куда пароход доставил уголь для пришедшего с Земли Франца-Иосифа ледокольного парохода «Георгий Седов».
В июле 1932 года Николай Иванович Хромцов назначается старшим помощником капитана ледокольного парохода «В.Русанов», которым командовал Борис Иванович Ерохин. В летнюю навигацию этого года Николай Иванович Хромцов на «Русанове» участвовал в экспедиции к архипелагу Северная Земля и мысу Челюскин под командованием известного ученого-полярника Рудольфа Лазаревича Самойловича.
Характеризуя экипаж «Русанова», Рудольф Лазаревич Самойлович писал: «Общее количество участников экспедиции составляло 63 человека. Из них 36 человек команды во главе с одним из наиболее опытных полярных капитанов - Борисом Ивановичем Ерохиным, испытанным начальником зверобойных экспедиций. Старший помощник капитана Николай Иванович Хромцов был моряком от природы. Ловкий, сильный, сообразительный, он был правой рукой капитана»*.
Об этом говорила и его внешность: высокий, стройный, широкоплечий, всегда по-флотски подтянутый и аккуратный, со свойственной всем морякам немного косолапой походкой. На широком лице помора выделялись крутой упрямый подбородок и полные добродушные губы, а над высоким лбом курчавились темно-каштановые волосы. Из-под густых бровей смотрели синие глаза, которые меняли окраску, если он сердился или был чем-то озабочен, - становились серыми, стальными. Обычно суровое лицо в веселые минуты озаряла белозубая улыбка, делавшая его очень добрым и Привлекательным, правда улыбался он редко и не мог сидеть без дела. По характеру своему молодой штурман был «молчальником», но отличался большой наблюдательностью и любознательностью, о чем свидетельствуют оставленные им дневники.
_______________________________
* Самойлович Р.Л. Моя 18-я экспедиция. Изд. ВАИ, 1934.
Из Архангельска «Русанов» вышел 31 июля 1932 года и, пройдя из Баренцева моря в Карское проливом Маточкин Шар, 6 августа прибыл на Диксон, где уже находился «Сибиряков». Затем направился к Северной Земле Вот что пишет об этом в дневнике Николай Иванович Хромцов:
«11 августа «Русанов» вышел к Северной Земле. Идя от острова Диксон к острову Уединения, 12 августа... встретили неизвестный, не нанесенный на карте остров... От западного берега острова идет узкая песчаная обсушенная коса, на которой замечен плавник. Между косой и островом -вода. Коса идет по длине всего острова. Вследствие редкого тумана остров был виден не весь, а только южная часть его. Видимая черта берега около 10 миль. У южного конца острова в возвышенности имеется перемычка, почему он кажется будто бы разделенным... По причине тумана осмотреть основательно очертания берега и острова не было возможно...
12 августа 1932 года, продолжая следовать на север, в 19 ч. 50 м. справа по носу в расстоянии одной мили открылся остров, не нанесенный на карте... Границу восточной оконечности острова вследствие тумана определить трудно. Западный берег острова обрывистый. На юго-запад от западной оконечности в расстоянии около одной мили есть буруны на банке. Берег окружен рифами, сильный прибой... В 20 часов остров закрыло туманом... пройдя 4 мили... отдали якорь. На норд-ост виден берег острова. Берег обрывистый, вероятно западная оконечность острова, открытого в 19 ч. 50 м. Видимость плохая. Очертания берега и острова не рассмотрены, за исключением западной оконечности...»
К острову Домашний корабль подошел 14 августа. Высадил на берег зимовочную партию Нины Петровны Демме, выгрузил продовольствие и топливо и взял на борт отзимовавшую группу Георгия Алексеевича Ушакова. После этого пошел к проливу Шокальского. При входе в пролив из Карского моря обнаружили еще группу островов, не значившихся на морской карте. Пролив Шокальского (между островами Большевик и Октябрьской Революции) был открыт Николаем Николаевичем Урванцевым и Георгием Алексеевичем Ушаковым в августе 1931 года. «Русанов» - первое судно, прошедшее весь пролив от Карского моря до моря Лаптевых. Впервые выполнив гидрологические наблюдения и промеры глубин по всему проливу, «Русанов» направился вокруг мыса Неупокоева (юго-западный мыс острова Большевик) в пролив Вилькицкого.
Несмотря на туманную штормовую погоду, причем «Русанов» шел в совершенно еще не исследованном районе Карского моря, он благополучно прибыл к месту назначения, бросив якорь у самого северного мыса Евразии - мыса Челюскин. Выгрузка проходила в условиях штормовой погоды. Построив радиостанцию и попрощавшись с ее первыми зимовщиками во главе с доктором Б.Д.Георгиевским, команда «Русанова» занялась гидрологическими и промерными работами в проливе Вилькицкого, также производившимися здесь впервые. Затем ледокольный пароход снова пошел к острову Домашний, а от него к Новой Земле. Обойдя северную ее оконечность - мыс Желания, он вошел в Русскую Гавань, где помог зимовщикам во главе с геологом М.М.Ермолаевым достроить полярную радиостанцию.
19 сентября ледокольный пароход вышел в море, держа курс на Архангельск, куда прибыл 24 сентября 1932 года.
В следующую летнюю навигацию Николай Иванович Хромцов в качестве старшего помощника капитана «Русанова» Бориса Ивановича Ерохина совершил рейс в море Лаптевых, в бухту Марии Прончищевой, куда пароход завез промышленников-зверобоев с семьями во главе с известным полярным охотником Сергеем Прокопьевичем Журавлевым. В этой промысловой экспедиции (начальник Александр Васильевич Воробьев) участвовали и строители во главе с инженером В.М.Москвиным. Им надлежало построить в бухте Марии Прончищевой дом и службы для зверобоев.
На судне вторым помощником капитана был Николай Васильевич Бердников, третьим - Василий Дмитриевич Заборский, старшим механиком - Константин Александрович Трубин. Попутные гидрометеорологические наблюдения во время плавания производились гидрологом-практикантом Всесоюзного арктического института Марией Астровой, студенткой Ленинградского государственного университета.
12 августа «Русанов» вышел из Архангельска к Новой Земле. 20-го он прибыл на Диксон, а 24-го вместе с «Сибиряковым» и караваном судов 1-й Ленской экспедиции (начальник Борис Васильевич Лавров) под проводкой ледокола «Красин» направился к мысу Челюскин, куда прибыл 31 августа. Выгрузив авиационный бензин, «Русанов» снялся с якоря и пошел проливом Вилькицкого в море Лаптевых. 5 сентября вошел в бухту Марии Прончищевой. На морской карте того времени обозначался только вход в бухту, а дальше было белое пятно: ни конфигурация ее, ни глубины известны не были.
Из воспоминаний Марии Сергеевны Хромцовой: «Самым малым ходом, со спущенным в воду якорем, постоянно измеряя глубину лотом, входили мы в эту таинственную, еще никем не исследованную бухту и наконец бросили якорь. Я, конечно, торчала на палубе, восхищаясь смелостью и ловкостью моряков. Когда судно стало, на берег сошли А.В.Воробьев, С.П.Журавлев, Н.И.Хромцов, К.А.Трубин, В.М.Москвин, члены экипажа, промышленники и я. Меня взяли по настоянию капитана, считавшего, что первой на эту землю должна ступить женщина, так как бухта названа в честь женщины - жены полярного исследователя В.Прончищева, постоянной его спутницы. Когда моторная шлюпка подошла к берегу, здоровенный С.П.Журавлев взял меня на руки и, шагнув прямо в воду, первой поставил на берег. Высадившиеся следом члены экипажа и промышленники троекратным залпом из ружей приветствовали эту землю, которую им предстояло осваивать...»
Около галечной косы, где высадились русановцы, в воде и на самой косе было много моржей. Промышленники остались довольны выбором этой бухты для промысловой зимовки. После выгрузки и строительства станции «Русанов» вышел в море, где встретился с «Красиным». Тот шел с пароходами 1-й Ленской экспедиции к проливу Вилькицкого. «Русанов» присоединился к нему. Но из-за тяжелых ледовых условий пароходы «Правда», «Товарищ Сталин» и «Володарский» пришлось оставить на зимовку в припае островов Комсомольской Правды. А «Красин» с «Русановым» направились в Карское море к зажатому льдами «Сибирякову», после чего все три корабля пошли на Диксон. В Архангельск «Русанов» прибыл 14 октября 1933 года.
Но уже 22 октября вышел в Умбу. Весь ноябрь и часть декабря он проработал на линии Умба-Кандалакша. В это время в Умбу из Мурманска пришел за портовым ледоколом большой парусник «Альбатрос». Буксировать его обратно в Мурманск пришлось «Русанову». 2 декабря он взял «Альбатрос» на буксир и вышел в море.
Две попытки провести парусник в Мурманск не удались из-за свирепствовавших в Белом и Баренцевом морях штормов ураганной силы, и 11 декабря суда вернулись в Умбу. А 14-го капитан Борис Иванович Ерохин скоропостижно скончался на «Русанове». Капитаном назначили Николая Ивановича Хромцова.
Летом следующего года «Русанов» под командованием Николая Ивановича Хромцова отправился в море Лаптевых - в бухту Нордвик - с продовольствием и оборудованием для геологической экспедиции, занимавшейся поисками нефти на полуострове Урюнг-Тумус. На «Русанове», кроме команды и членов экспедиции для выполнения попутных гидрометеорологических наблюдений под руководством известного гидрографа-океанолога Сергея Дмитриевича Лаппо, шли гидрологи Мария Сергеевна Хромцова и О.В.Васильева.
На фото Н.И. Хромцов с женой М.С. Хромцовой

30 июля «Русанов» пришел на Диксон, где уже находились «Ермак», «Садко» и «Сибиряков».
5 августа «Русанов» и «Сибиряков» покинули Диксон и отправились на восток. 15-го числа в густом тумане они наконец подошли к мысу Челюскин, а 16-го «Русанов» продолжил путь на восток. Преодолев с помощью «Ермака» льды пролива Вилькицкого, он вышел в море Лаптевых, где встретился с ледорезом «Ф.Литке», который выполнял сквозной рейс с востока на запад в одну навигацию.
28 августа «Русанов» прибыл в бухту Нордвик и приступил к выгрузке, а 22 октября пришёл в Архангельск. За сто суток плавания им было пройдено 6594 морские мили.
В ноябре-декабре 1934 года Николай Иванович Хромцов на «Русанове» совершил чрезвычайно ответственный и трудный рейс к Шпицбергену, куда нужно было срочно доставить взрывчатку для советских угольных копей. Наступившая в этих районах полярная ночь, свирепые зимние штормы, сплошная облачность и сильные снегопады осложняли его плавание. И на пути к Шпицбергену, и на обратном пути «Русанов» испытал жестокий шторм, произведший на судне много разрушений. Только 3 декабря добрался он до Мурманска.
19 февраля 1935 года Николай Иванович снова ушел на промысел. Придя в Архангельск, начал подготовку судна к очередной арктической навигации.
В навигацию 1935 года Хромцов ходил на «Русанове» в Восточно-Сибирское море, к дельте реки Индигирки. Сюда доставил различные грузы для Якутии и зимовочную партию под руководством Н.Н.Францевича, целью которой было изучение природных богатств этого края. Для выполнения попутных гидрометеорологических работ на «Русанове» шли старший гидролог М.С.Хромцова и техник К.В.Овсов.
Из Архангельска «Русанов» вышел в море 18 июля и через десять дней прибыл на Диксон. Отсюда «Русанов» и ледокол «Ермак» через пролив Вилькицкого пошли в море Лаптевых. В густом тумане суда вышли на кромку. «Ермак» повернул обратно, и дальше «Русанов» продолжил путь в одиночку. 12 августа он встретился с пароходами «Сталинград» и «Анадырь», повторявшими сквозной поход с востока на запад в одну навигацию.
В Тикси «Русанов» прибыл 18 августа и на другой же день вышел в море, ведя на буксире 40-тонный кунгас.
К бару реки Индигирки подошел 21 августа. Из-за мелководья бара разгружаться пришлось километрах в семидесяти от берега. Частые туманы, штормовая погода и недостаток плавсредств затрудняли и задерживали выгрузку.
Лишь 11 сентября «Русанов» ушел в Тикси, где сдал оставшийся груз, после чего доставил буровое оборудование на остров Преображения. Затем, взяв на борт пассажиров с мыса Челюскин и с острова Белый, направился в Архангельск, куда пришел 30 сентября.

За время рейса им было пройдено 6098 морских миль. 29 января года Николай Иванович Хромцов получил распоряжение срочно выйти в море на поиски парохода «Иртыш». Следуя из Копенгагена в Мурманск, тот попал в сильный шторм, сжег весь уголь, и его от Кольского залива понесло в море.
«Иртыш» Николай Иванович Хромцов нашел на меридиане мыса Святой Нос, в 110 милях от берега. Только 4 февраля привел его на буксире в Мурманск «Русанов» и тут же ушел на промысел в Белое море. Оба промысловых рейса Хромцов провел очень удачно, и команда «Русанова» вышла на первое место среди соревнующихся судов, опередив и «Сибиря-кова», и «Садко».
12 июля капитан Николай Иванович Хромцов принял «Садко», сдав «Русанова» капитану Артуру Карловичу Бурке.
2-я высокоширотная экспедиция на «Садко», начальником которой был назначен Рудольф Лазаревич Самойлович, должна была провести исследовательские работы в северной части Восточно-Сибирского моря, а также построить на одном из островов Де-Лонга полярную радиостанцию. В случае, если бы удалось открыть Землю Санникова, станцию предполагалось построить на ней.
14 июля Николай Иванович Хромцов получил диплом капитана дальнего плавания, а 24-го отправился на «Садко» в Арктику. На Диксон судно прибыло через шесть дней. Забункеровавшиоь углем, оно пошло к каравану «Литке» и вместе с ним стало пробиваться к проливу Вилькицкого. В составе каравана были два эскадренных миноносца, танкеры «Лок-Батан» и «Майкоп». Из-за очень тяжелой ледовой обстановки на востоке Карского моря Отто Юльевич Шмидт отменил экспедицию, и «Садко» переключили на проводку кораблей в помощь «Литке». За выполнение этого ответственного задания все его участники были награждены орденами и медалями, капитан Николай Иванович Хромцов - орденом «Знак Почета».
6 сентября «Садко» вышел с Диксона к Земле Франца-Иосифа для выполнения исследовательских работ. 21 сентября водолазы обнаружили, что у судна повреждены руль и гребной винт, кроме того, имеется течь в различных частях корпуса. Дефекты были серьезными, и пришлось идти в Ленинград, где «Садко» стал на капитальный ремонт в Кронштадтский док. После ремонта Хромцов снова ушел на промысел в Белое море.
В летнюю навигацию 1937 года Николай Иванович Хромцов как капитан «Садко» принял участие в 3-й высокоширотной экспедиции Главсевморпути, начальником которой опять назначили профессора Рудольфа Лазаревича Самойловича, а его заместителем по научной части - профессора Владимира Юльевича Визе.
Он пишет: «В план работ Третьей высокоширотной экспедиции на «Садко» в основном входили задачи, возложенные на экспедицию 1936 года и оставшиеся невыполненными вследствие неблагоприятных ледовых условий... На борту "Садко" находилась также группа зимовщиков со станции на островах Де-Лонга в составе 7 человек во главе с Л.Ф.Мухановым...»*
Утром 26 июля «Садко» вышел в море. На Диксон он прибыл 31 июля и 4 августа направился к проливу Вилькицкого. Продрейфовав со льдами через пролив, вышел в море Лаптевых и вдоль кромки льда пошел на север.
18 августа экспедиция обнаружила в этом мелководном море большие глубины. Наибольшая глубина этого желоба составила 2381 метр. Это уже было географическое открытие. Встретив при движении на север очень тяжелый многолетний лед, «Садко» взял курс в район предполагаемого нахождения загадочной Земли Санникова. Обследовав акваторию к северу от Новосибирских островов, он установил, что здесь никаких островов нет. Ограниченное количество угля вынудило руководство экспедиции отказаться от дальнейших поисков, и «Садко» пошел к одному из островов Де-Лонга - острову Генриетты, на котором была построена полярная радиостанция.
______________________________________________
* Визе В.Ю. Третья высокоширотная экспедиция на «Садко» 1937 года // Проблемы Арктики. № I. 1938.
На высоком берегу острова из камней сложили гурий и водрузили флаг Советского Союза, присоединив этот остров к владениям нашей страны.
8 сентября строительство полярной радиостанции было закончено, и «Садко», простившись с зимовщиками и отсалютовав им залпами из ружей и гудками, направился к острову Жаннетты. Нога человека на него еще не ступала.
Остров оказался небольшим, скалистым. На берег высадилась часть команды и членов экспедиции во главе с Рудольфом Лазаревичем Самойловичем. Сложив на острове из камней гурий и водрузив Государственный флаг СССР, все вернулись на борт судна. После этого «Садко» пошел к островам Жохова и Беннетта. Их обследовали и произвели топографическую съемку. На острове Беннетта садковцы обнаружили остатки домика экспедиции Эдуарда Васильевича Толля. Когда все работы были выполнены, «Садко» отправился в бухту Тикси.
Здесь судно простояло до 20 сентября. В ночь на 20 сентября ветер стал штормовым. Утром был получен сигнал бедствия с гидрографического судна «Хронометр». Просил помощи также «Малыгин», который вел в Тикси караван судов с баржами на буксире (на баржах были люди) и пароход «Челюскин».
По готовности машины в 10 часов утра «Садко» вышел в штормовое море на помощь терпящим бедствие судам. Из Тикси Николай Иванович получил сообщение, что на спасение барж с людьми вышел буксирный пароход «Леваневский», а «Челюскин» от помощи отказался, надеясь продержаться на двух якорях до конца шторма. Тогда «Садко» направился на поиски «Хронометра», который на вызовы радиостанции не отвечал.
21 сентября в 9 часов утра с парохода увидели «Хронометр», выброшенный штормом на косу мыса Буорхая. Днем прибой уменьшился, и экипаж «Хронометра» доставили на «Садко». А 23 сентября он пришел в Тикси, где сдал на берег экипаж «Хронометра».
26 сентября стало известно, что караван ледокола «Ленин» вынесло дрейфующими льдами из пролива Вилькицкого в море Лаптевых, причем пароходы «Товарищ Сталин» и «Ильмень» имеют пробоины. На другой день было получено распоряжение - «Садко» идти к каравану «Ленина».
Освободив изо льдов «Кузнецкстрой», отправившийся на восток, «Садко» помог «Седову» выйти из ледового плена и вместе с ним пошел на юг вдоль барьера тяжелого сплоченного торосистого льда, форсировать который корабли были не в силах. Учитывая ограниченные запасы угля, решили подождать прихода с востока «Красина». «Красин» и «Малыгин» подошли 14 октября, и в тот же день «Красин» пошел к «Ленину» один, но обратно вернуться уже не смог. Уйти самостоятельно на восток, пока позволяла обстановка, суда не могли, так как разрешения не получили. Море Лаптевых между тем быстро замерзало, и все три парохода, зажатые тяжелыми льдами в открытом море, вместе с ними начали дрейфовать на север. Всего на судах зазимовало 217 человек. По просьбе всех капитанов Отто Юльевич Шмидт назначил начальником группы зимующих судов Рудольфа Лазаревича Самойловича.
9 ноября на «Садко» выключили электрическое освещение и перешли на керосиновые лампы, а 10-го отключили паровое отопление и перешли на камельковое. 16 ноября консервация машин была закончена и все котлы потушены... Началась подготовка аэродромов.
Утром 3 апреля самолеты вылетели к каравану, а 26-го летчики Анатолий Дмитриевич Алексеев и Павел Георгиевич Головин вывезли последних 79 членов экипажа. На дрейфующих кораблях осталось всего 33 человека во главе с капитаном Николаем Ивановичем Хромцовым, которого после отлета Рудольфа Лазаревича Самойловича руководство Севморпути назначило начальником группы дрейфующих судов.
Рано утром 28 августа 1938 года «Ермак» подошел к ледокольному пароходу «Георгий Седов». Тот самостоятельно идти не мог из-за поврежденного руля, к тому же его подводная часть находилась в прочном ледяном корыте. При его буксировке «Ермак» потерял правый бортовой винт. Тогда было решено оставить «Седов». Он продолжил дрейф как научная станция. А «Ермак» повел на юг «Садко» и «Малыгина». На обратном пути в борьбе со льдами ледокол потерял и второй бортовой винт, оставшись с одной машиной. На трудных участках корабли помогали друг другу и наконец вышли на кромку, где их уже ждали «Литке» и «Моссовет», привезшие уголь. После бункеровки все корабли включились в арктическую навигацию.
Вскоре Хромцова перевели капитаном на ледокольный пароход «Дежнёв». На нем он отправился вокруг Скандинавии в Архангельск, а оттуда в Арктику. Эта навигация явилась для него одной из самых сложных и тяжелых. За ее успешное проведение Хромцов был награжден медалью «За трудовую доблесть».
По возвращении из Арктики «Дежнёв» из Архангельска перешел в Мурманск. Шла война с Финляндией, и его из Главсевморпути передали военному ведомству, а Николая Ивановича Хромцова мобилизовали в Военно-морской флот и назначили командиром «Дежнёва». В арктическую навигацию этого года «Дежнёв» завез различные грузы во многие пункты Арктики.
В середине ноября 1940 года «Дежнёв» направился на Шпицберген, где уже наступила полярная ночь, а в море начались осенние штормы. В Мурманск «Дежнёв» вернулся 18 января 1941 года, а через месяц ушел на зверобойный промысел в Белое море. Вернулся 19 мая и снова отправился на Шпицберген, где занимался вскрытием невзломанного льда в бухтах.
В начале июня Николай Иванович Хромцов на «Дежнёве» пришел в Мурманск. Здесь и застала его Великая Отечественная война. В первый же день Николай Иванович Хромцов принял от капитана Андрея Ивановича Койвунена командование ледоколом «Ленин», который в это время находился в ремонте и стоял в доке судоремонтного завода в Росте.
Из воспоминаний Евгения Александровича Чиженко, второго механика «Ленина»:
«С началом войны многие рабочие завода, работавшие по ремонту ледокола, были мобилизованы в армию. Чтобы быстрее закончить ремонт, командир корабля т. Хромцов Н.И. отдал приказ организовать бригады по ремонту корпуса из судового состава машинной и палубной команд. Ледокол благополучно вышел из дока, вступив в строй действующих кораблей. Во время стоянки в порту Мурманск ледокол находился в полной боевой готовности и огнем своих орудий отражал налеты фашистских самолетов. На верхнем мостике ледокола всегда находился командир Хромцов. Умело маневрируя кораблем, он избегал прямого попадания бомб и совместно с командиром артиллерии вел по фашистским самолетам огонь. Николай Иванович в таких сложных и серьезных моментах проявлял большую силу воли и спокойствие и этим подавал пример всему личному составу экипажа как волевой, знающий свое дело командир...»
Во время одного из налетов огнем зенитной артиллерии «Ленина» был сбит немецкий бомбардировщик. Об этом рассказал в своей статье бывший старший механик «Ленина» С.А.Куфтырев*.
Как следует из вахтенного журнала ледокола «Ленин», 9 августа 1941 года на ледокол было сброшено шесть бомб, разорвавшихся в непосредственной близости. Осколки повредили надводную часть корпуса, ранили краснофлотцев, один из которых скончался. После осмотра повреждений пробоины были заделаны.
16 августа, воспользовавшись густым туманом, окутавшим Кольский залив и южную часть Баренцева моря, ледоколы «Ленин» и «И.Сталин» в сопровождении двух эскадренных миноносцев - «Куйбышев» и «Урицкий» -вышли из Кольского залива в Баренцево море, взяв курс к мысу Желания. Обогнув его, направились к Диксону, куда прибыли 21 августа. С Диксона оба ледокола пошли к мысу Челюскин и через пролив Вилькицкого 30 августа
_________________________________________________
* Куфтырев С.А. В годы испытаний // Газета «Арктическая звезда» № 37 от 8 1970 г.-
вышли в море Лаптевых, где занялись проводкой транспортных судов с военными грузами.
В сентябре «Ленин» вновь направился на Диксон. Но 12 сентября изменил курс и пошел на помощь «Садко», севшему на банку в Карском море в районе островов Известий ЦИК. Все операции по спасению команды с аварийного «Садко» проходили в чрезвычайно сложных условиях сильного шторма, но были выполнены успешно. Людей спасли и доставили на Диксон.
1 ноября «Ленин» под охраной двух миноносцев отправился в Архангельск, куда прибыл 3 ноября, благополучно закончив первую военную арктическую навигацию.
21 ноября по распоряжению штаба Северного флота Николай Иванович Хромцов начал проводку военных и транспортных судов через льды Белого моря в Архангельск и Молотовск. Ледовая проводка осложнялась частыми налетами вражеской авиации, пытавшейся сорвать движение караванов, вывести из строя ледоколы, но потопить ни один из них ей не удалось. Караваны под охраной ледоколов благополучно приходили в порты назначения.
Утром 21 июля 1942 года «Ленин» вышел из Архангельска в Молотовск. На его борту находился уполномоченный Государственного комитета обороны по перевозкам на севере Иван Дмитриевич Папанин. А 22 июля ледоколы «И.Сталин», «Ленин» и «Красин», ледокольный пароход «Монткальм» и английский танкер «Хопмаунд» отправились в Арктику под охраной военных кораблей. 4 августа они прибыли на Диксон, откуда «Сталин» и «Ленин» ушли в пролив Вилькицкого. Сюда же 22 августа пришел и караван «Красина» в составе девяти пароходов. Получив 25 августа сообщение с «Сибирякова» о встрече и бое с немецким линкором, ледоколы спешно увели пароходы в море Лаптевых. 30-го «Красин» повернул обратно, а «Ленин» повел караван на восток.
12 сентября Хромцову приказали следовать к зажатому льдами в районе острова Айон (Чукотское море) теплоходу «Кузнец Лесов». Околов транспорт, «Ленин» и ледокол «Адмирал Лазарев» с караваном транспортов пошли на запад.
После вывода судов из Игарки ледоколы «Ленин», «Красин», «Микоян» и сторожевые корабли СКР-18 и СКР-19 занялись проводкой судов из Карского моря в Баренцево через пролив Карские Ворота. Все суда затем были переданы для дальнейшего конвоирования военным тральщикам. Ледоколы «Ленин» и «Микоян» отправились в Белое море.
26 ноября около 22 часов под кормой «Микояна» взорвалась мина. Как следует из судового журнала, на судне было повреждено рулевое управление и обнаружена течь в машинном отделении. После водолазного осмотра 29 ноября, произведенного в становище Иоканга, ледоколы в сопровождении конвоя всё же пошли в Белое море. 30 ноября «Ленин» уже ошвартовался у пристани в Архангельске. Вторая военная арктическая навигация была благополучно закончена. За время плавания ледоколом было пройдено 8637 морских миль и проведено 77 транспортных судов.
1 декабря Хромцов приступил к проводке судов по Северной Двине, а с середины января 1943 года снова занялся проводкой караванов торговых и военных судов через льды Белого моря. И этой зимой ледоколы и транспорты подвергались нападениям фашистской авиации, которые отражали огнем своих орудий.
Краснофлотец-артиллерист А.И.Елин в письме к авторам очерка пишет:
«Командир ледокола «Ленин» капитан-лейтенант Н.И.Хромцов всегда, в любой обстановке был опрятен, подтянут. Это был волевой командир, знающий свое дело. Он являлся душой личного состава корабля. Смелый и решительный, в походах он не покидал мостика. Николая Ивановича можно было видеть и в кубриках матросов и краснофлотцев, и в столовой экипажа, и на боевых постах около орудий. Искренним словом и своим спокойствием он воодушевлял личный состав ледокола на выполнение поставленных задач, вселял веру в успех. В конце февраля 1943 года «Ленин» вместе с группой ледоколов и кораблей боевого охранения находился в горле Белого моря в ожидании подхода из Баренцева моря каравана судов. Видимость была очень плохая - над морем опустился туман и низко неслись серые рваные облака.
Обнаружили вражеские самолеты вахтенные «Ленина», и зенитчики ледокола первыми открыли огонь. Один из бомбардировщиков задымил и обратился в бегство. А второй Ю-88 пытался спикировать, но ураганный огонь со всех кораблей ему помешал. Беспорядочно сбросив бомбовый груз, он также обратился в бегство...»
Об А.И.Елине, краснофлотце-артиллеристе, тоже хочется сказать несколько слов. Родился он в деревне Великуше Макарьевского района Костромской области. До призыва в армию работал трактористом. В 1936 году, призванный в Военно-морской флот, он окончил в Кронштадте школу артиллерийских электриков. Направленный в 33-й отдельный артдивизион Краснознаменного Балтийского флота, принимал участие в войне с белофиннами. Демобилизовавшись, работал у себя в колхозе трактористом. Во время Великой Отечественной войны его снова призвали в Военно-морской флот и направили в ледокольный отряд Беломорской военной флотилии на ледокол «Ленин», на котором он прослужил с 1941 по 1945 год. В войне участвовали четыре его брата и сестра. Три брата и сестра погибли. После войны А.И.Елин работал в Архангельске на Маймаксанском заводе лесосплавного оборудования...
Из письма Николая Ивановича Хромцова жене (3 сентября 1943 года): «Я долго задержался здесь, были серьезные починки. Ты и ребята, возможно, уже в санатории, хоть отдохнешь немного. А когда я буду отдыхать, и не представляю, но чувствую, что надо. Уже третий год напряженной работы, так и выдохнуться недолго... Но теперь, кажется, уже недолго нам жить врозь. Все идет к тому, что немцев скоро расколотим и опять будем вместе...»
С 16 сентября 1943 года «Ленин» находился в Архангельске в трехсуточной готовности. Капитан ожидал распоряжения о выходе в Арктику. Но отправиться в новый рейс Николаю Ивановичу не довелось.
Из письма лейтенанта Глотова Марии Сергеевне Хромцовой:
«С глубоким прискорбием сообщаю, что в 23 часа 30 минут 23 сентября сего года после весьма непродолжительной болезни (одни сутки) Ваш муж и мой командир капитан-лейтенант Хромцов Николай Иванович скончался от разрыва аорты. Выражаю Вам свои искренние соболезнования по поводу безвременной кончины Николая Ивановича».
26 сентября 1943 года в 8 часов утра на ледоколе «Ленин» был поднят и приспущен кормовой флаг. В 10 часов утра команда выстроилась для проводов своего командира.
Похоронили Николая Ивановича Хромцова на Вологодском кладбище Архангельска, отдав ему воинские почести. Провожала своего командира в последний путь и вся команда корабля. Когда выносили фоб из Архангельского арктического морского пароходства, ледокол отсалютовал длинным прощальным гудком.
За отличную работу и боевые подвиги во время войны ледокол «Ленин» одним из первых был награжден орденом Ленина, но его командир об этом уже не узнал. В книге «Русские мореплаватели» (Изд-во МО СССР, 1953 г.) Николай Иванович Хромцов назван «выдающимся советским ледовым капитаном». Имя его занимает достойное место среди знаменитых русских мореплавателей всех времен. Увековечено оно в названиях географических объектов: ледниковый купол Храмцова (остров Харли, Земля Франца-Иосифа), мыс Хромцова (Земля Георга, Архангельский пролив), улица Капитана Хромцова (Архангельск).
По распоряжению Ивана Дмитриевича Папанина название «Капитан Хромцов» было присвоено деревянной шхуне, построенной в Архангельске на Маймаксанской судоверфи в 1943 году. А когда списали шхуну, со стапелей Херсонского судостроительного завода сошло новое большое судно (водоизмещением более 20 тысяч тонн) ледового класса, которому решением ММФ СССР было присвоено название «Капитан Хромцов».