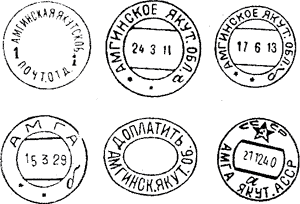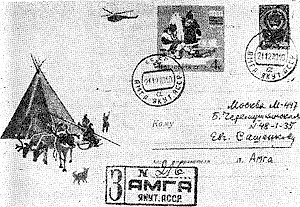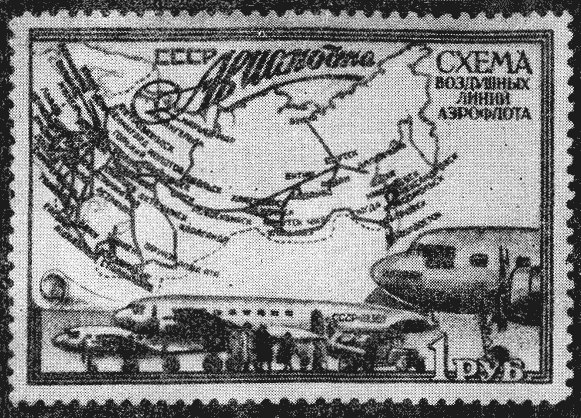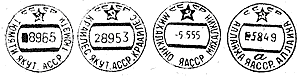|
|
|
На почтовых трактах
Севера.
(К истории почты Якутии)
Евгений Петрович Сашенков.
Между Вилюем и Леной
С ростом населения города Якутска него значения как центра огромной Якутской области набирал силу почтовый тракт Иркутск — Якутск. Он укреплялся, обрастал станками-станциями, все более оживлялся. Дорога входила в историю как почтовая артерия, выполнявшая важную функцию в отдалении от столицы Российского государства, как величайшее по масштабам того времени российское достижение. И пусть теперь не покажется чересчур смелым сравнение главного сибирского тракта со знаменитой стальной Транссибирской магистралью, строительство которой началось в 1893 году и завершилось уже в годы первой мировой войны. Да, разные времена, разные масштабы, разные технические возможности! Но и тракт, как и магистраль, навсегда останется пямятником творческим силам народа.
Тракт порождал новые коммуникации на якутской земле. Его благотворное влияние первым ощутил обширный край между Вилюем и Леной. На протяжении почти всего XVIII века его пересекал единственный путь, по которому шла почта и двигались люди в глубь Восточной Сибири, в Северо-Восточную Азию. Теперь уже не просто вспомнить, как много и тогда, и позже увидел тракт: тянулись вдоль Лены подгоняемые ямщиками тройки с почтовой поклажей, дремали в кибитках чиновники всех сословий и рангов, направлялись в далекую якутскую ссылку декабристы, народники, социал-демократы, большевики... Протяженность тракта от традиционного центра почтовых путей, города на Ангаре Иркутска до города на Лене Якутска — 2895 км, причем 2400 км тянулись вдоль берега Лены, а зимой путь прокладывался по льду реки.
В меру возможностей служил тракт и дорогой для путешественников, оставаясь главным каналом поступления писем из внутренних областей России на Северо-Восток. Но отзывы о дороге были суровые. Н. Г. Чернышевский писал: "Проезд от Иркутска до Якутска — тяжелое и рискованное предприятие: труднее, чем какое-нибудь путешествие по внутренней Африке". В конце прошлого века военный деятель А. А. Игнатьев, впоследствии автор известной книги "Пятьдесят лет в строю", назвал некоторые участки иркутского тракта "сплошным кошмаром".
Внимание делам почтовым уделил в своих путевых очерках "Фрегат "Паллада" и русский писатель середины прошлого века И. А. Гончаров. Возвращаясь в 1854 году из кругосветного путешествия, он проследовал из порта Аян на Охотском море через всю Якутию на запад. Миновав Амгинскую слободу, тогда чуть ли не единственный населенный пункт с оседлым населением на всем протяжении тракта между Леной и Охотским морем, Гончаров проехал до Якутска. На отрезке Амгинская — Якутск тогда было шесть почтовых станций. В те времена, когда писатель проезжал, как он указывал, "по таким местам, которые еще ждут имен в наших географиях" /21/, рано было говорить об организованной почтовой сети. "Почта ходит раз в месяц, и дорога по полугоду глохнет в совершенном запустении" /22/, — отмечал он, наблюдая за жизнью на тракте при подходе к Якутску. Впоследствии, следуя зимой вдоль течения Лены от Якутска на Иркутск, наблюдает почти ту же картину: "Здесь идет правильный почтовый тракт, и весьма исправный, но дорога не торная, по причине малой езды. Проедет почта или кто-нибудь из служащих, и опять замолкнет надолго путь, а дорогу заметет первым ветром. Приходится проезжему вновь пролагать ее по снежным буграм: от этого здесь дорога постоянно тяжела для лошадей. Едут и рекой, где можно, лугами, островами и берегом" /23/.
По якутским трактам немало поездил на почтовых лошадях в период первого пребывания в Сибири (1888— 1892 гг.) ученый и путешественник В. А. Обручев. Тогда он был геологом Иркутского горного округа. В поездках его часто сопровождала жена. В одном из писем Е- II. касается подробностей путешествия по почтовому тракту от Иркутска до Лены; «Итак, сперва мы еха-ли 240 верст по почтовой дороге. Боже, что это была за тряска и качка, бултыханье и опрокидыванье на протяжении всей дороги, идущей преимущественно по обезлесенным холмам...» Далее описывается путь вниз.по Лене. Здесь она наблюдала, как почту доставляли в лодках, и называлось это «водной почтой» (24). Упоминания почты встречаются в письмах самого В. А. Обручева к своей матери: «Долина Лены — единственный путь сообщения между юго-западной и северо-восточной частью Восточной Сибири» (25). «Единственное, чем существуют крестьяне побережий Лены,— это речная почта». (26).
Здесь следует заметить, что организация речных почтовых перевозок в той части течения Лены, которая упоминается в приведенных высказываниях, представляла всегда особые сложности: в этих местах река часто была мелководной. В верховьях Лены от Якутска до Усть-Кута плавали с 1902 года первые на Лене Почто-вые пароходы. На них применялись почтовые штемпеля, А выше по течению рейса настолько изобиловала пере-катами, что с давних времен почта здесь перевозилась на лодках. Против течения лодки тянули лошадьми. До-ставка почты от Качуга до Усть-Кута отнимала 6 — 8 суток, а в обратном направлении 8—10 суток. В результате почта неделями мокла под дождем.
В советские годы Восточно-Сибирское управление связи начало в 1924 году искать пути механизации доставки почты в верхнем течении Лены. Проблему удалось решить только в 1927 году, когда были построены мелкосидящий буксирный теплоход с бортовыми коле-сами и почтовая баржа. Теплоход начал совершать рей-ы между Качугом и Усть-Кутом один раз в неделю с весны 1928 года.
Якутское почтмейетерство еще в дореволюционные годы придавало значение налаживанию сносной регуляр-ной почтовой связи со всеми окружными и улусными центрами. Хотя главное внимание уделялось, естествен-но, тракту Иркутск — Якутск. Некоторые почтовые станции на тракте вошли в историю, оставив след в воспоминаниях путешественников. За теми из них, что сумели распорядиться подарком судьбы, — события-интересные.
Местом сбора корреспонденции, адресуемой в Якутск и далее на восток, была почтовая станция Верхоленская. Отсюда почта шла в.следующем порядке: с 15 мая по октябрь — в крытых судах по реке Лене, в ноябре — марте — в санях по льду, а с апреля по 15 мая и в октябре— на вьючных лошадях. В обратном направлении поч-ти следовала таким же способом каждые 14 дней. Район отличался крайним бездорожьем, почта из Иркутска приходила в Якутск иногда через 30 дней.
Интересна история почтовой станции Амгинская, упоминавшейся нами. Селение Амгинская Слобода, получившее название от реки Амги, возникло во второй половине XVII века. Тогда здесь поселились первые русские крестьяне. Ускоренное развитие началось на исходе XVIII века, когда селению выпала роль связующего звена на тракте Якутск — Аян. В свое время Аян был главным портом России на Охотском море. А доставка почты туда с 1851 года имела особое значение. Это служило связи Российско-Американской компании, занимавшейся русскими владениями по ту сторону Тихого океана — на Аляске и Алеутских островах.
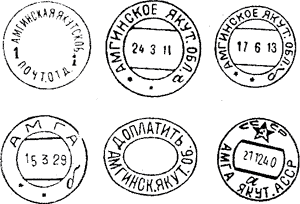
Штемпеля Амгинской почты 1911, 1913, 1929, 1940 гг. |
Амга, оставаясь длительное время единственным населенным пунктом на тракте, явилась пристанищем одной из самых первых и самых старых в Якутии почтовых контор. Называлась она Амгинской почтовой станцией. Упоминание о делах на станции в 1881 г. встречается в рассказе писателя В. Г. Короленко «Марусина Заимка», написанном по впечатлениям о годах ссылки: «Это была жалкая станция, конечный пункт почтовой дороги, которая шла дальше слободы и куда почта приходила раз в две недели» (27).
В конца прошлого столетия Амгинская почтовая станция стала уже хорошо известна путешественникам... Регулярное сообщение между Якутском и Амгой было организовано в 1890 г. Тракт протяженностью 201 км (178 верст) имел семь станков (станций): Амга (Амгинекая) — Крестях (Крестовская) — Хонхойка (Хонкуюкинская) — Чэнкэрэ (Женкеринская) — Нархалах (Эргалахская) — Бестях (Бегюрская) — Берылах (Бор-Ыларская) — Якутск. Почта доставлялась чаще всего на лошадях. На каждом станке имелись две лошади, в Якутске же — шестнадцать. На этом тракте взимали с проезжающих так называемые прогонные деньги. За проезд по казенной или частной надобности брали оди-наковую сумму: по три копейки за версту и лошадь.
Однако вернемся к главной цели повествования — в северные округа Якутской области. В литературе есть подтверждение того, что попытки как-то наладить ход почты в северном направлении в последней четверти прошлого столетия стали давать положительные результаты. В «Истории Якутской АССР» отмечалось: «В 70 -80-х годах укрепились связи Якутска с северными округами» (28). Укрепление региональных почтовых связей стоило Якутску, конечно, немалых усилий. Мимо очевидных сложностей не прошел и автор статьи «Пути сообщения в Сибири», написанной в 1908 году, сетуя на дороги: «В особенно печальном положении находятся дороги на северо-востоке Сибири» (29).
... В уездные города Якутской области в 1783 году был возведен Жиганск, небольшой населенный пункт лежащий на почтовом пути к Северу, шедшем вниз по Лене. — В этом месте, кстати, реку пересекает незримой чертой Северный полярный круг. Хотя в звании города Жиганск пробыл недолго, но, как одно нз старинных русских поселений на Леке, он упоминался еще в 1701 г. в небезызвестной «Чертежной книге Сибири» С. Ремезова.
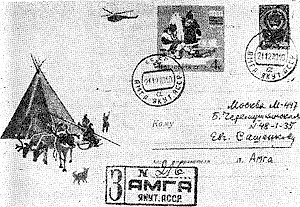
Заказное письмо, отправленное нз Амги в 1970 г. |
Как и многим другим пунктам, название Жиганску дал характер местности. Оно происходит от «Эдигэн»: житель низовья реки. Это аборигенное название появилось в советское время к началу 30-х годов и на почтовом штемпеле местного отделения связи. Причем тогда рядом с русской транскрипцией использовалась и латинская. Заметим: введение латинской транскрипции, про-водившееся повсеместно почтовым ведомством не только Якутии, но и Коми АССР, Татарской АССР и т. д., не дала ожидаемого результата, не привело к унификации почтовых штемпелей. Однако, если вернуться к Жиганску, его эвенское название закрепилось на штемпеле рядом с русской в русской транскрипции. (Образец применения двуязычного штемпеля).
Каждому, кто интересуется историей полярных открытий, Жиганск не безразличен. С ним связаны нелегкие походы русских землепроходцев на Крайнем Севере.
В этом отношении Жиганск можно сопоставить со старинным городом Енисейском, расположенным на Енисее почти на широте Жиганска. Именно выходец из Енисейска казачий сотник Бекетов основал в 1632 г. Якутск.
Жиганский острог был основан казаками через год после Якутска, став последним форпостом на пути в безлюдную Арктику. Ни одна экспедиция нз Якутска к морю не могла миновать Жиганска. Этот населенный пункт органически вошел в почтовую цепочку, сложившуюся в XVIII—XIX в.в. и еще в первой половине нашего веха сохранявшую свое значение (тракт Якутск—Жиганск— Булун);
Но «звезде» Жиганска на том небосклоне, куда были возведены новоиспеченные города, суждено было вскоре закатиться. Вот где появилась зависимость от взаимо-отношений с почтовым трактом! Н. И. Евгенов в работе «Экспедиция к устьям рек Лены и Оленёка» указывал: «Упадок Жиганска произошел как вследствии разграбления его в 1805 году шайкой белых каторжан, бежавших из Охотского острога, так и вследствии перенесения проходившего через него почтового тракта из Верхоянска» (30).
В то же время в Жиганском улусе к середине XIX века имелось четыре постоянных селения, жителями которых были преимущественно русские: Жиганск, Сиктях, Красное, Булун. Все они теснились к берегам Лены. Судьбы названных селений складывались по-разному. Например, Сиктях, что в 520 верстах ниже Жиганска, к тому времени обогнал в своем развитии Жиганск: здесь проживало около 10 семей. Кроме этих селений, в Жиганский улус входили небольшие поселки с якутским населением: Станнах — в 30 верстах ниже Булуна, Кумахсур — в 60 верстах ниже Станнаха, Быковский мыс — в устье Лены.
Однако самые интересные страницы истории почты в низовьях Лены связаны с селением Булун, являвшимся самостоятельным Булунским улусом. Исстари это был самый северный пункт проникновения казачьих от-рядов к низовью Лены, их опора на выходе в море. В дореволюционном «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона ему посвящены следующие слова: «Од-на из наиболее населенных местностей пустынного Верхоянского уезда -Якутской области, лежит на левом., берегу р. Лены, при впадении речки Булуни... В селении всего 15 домов и 65 душ жителей обоего пола» (31). Развивался Булунский улус, населенный якутами, эвенками и эвенами, довольно быстро. Очевидец местной жизни русский автор В. М. Зензинов отмечал, что в 1914 году, там насчитывалось уже 30 — 40 домов с населением в зимнее время от 170 до 200 человек (32).
На тот период, который совпал с пребыванием в Булуне В. М. Зензинова, приходится история, весьма знаменательная для характеристики условий, в которых зарождалась почта на Крайнем Севере Якутии. О многом рассказывает представляющая исключительный интерес и хранящаяся в почтовых делах Центрального государственного архива (ЦГА) ЯАССР подшивка документов так называемой «Булунской почтовой операции».
На 742 листах собраны материалы «Общественного приговора населения Булуна и Усть-Янска» с ходатайством об открытии в Булуне почтовой конторы (33). Дело начато 13 мая 1909 г., а завершено только 12 марта 1917 г.
«Почтовая операция» открывалась следующим прошением на имя якутского губернатора, подписанным участковым земским заседателем:
«Представляя при сем на благоусмотрение Вашего превосходительства приговор обывателей селения Булуна и Усть-Янска от 10 мая с. г. по поводу ходатайства об открытии в Булуне почтового отделения, честь имею доложить, что открытие отделения на Булуне крайне необходимо для всего населения, а потому при невозможности открытия почтового отделения осмеливаюсь покорнейше просить Вашего превосходительства установить с 1 октября по 1 мая из города Верхоянска на Булун отсылку ежемесячной регулярной почты в сопровождении казака с провозкой таковой существующими обывательскими станциями».
К прошению приколот и сам «Приговор», адресованный земскому заседателю и подписанный представителями населения. В этом любопытном документе указывается, в частности, что... «практикуемый способ путешествий почт (в год два — три раза), сопровождаемых в большинстве случаев первым попавшимся попутчиком, не может отвечать запросам населения, не говоря в духовном, но и материальном отношении; причем отсутствие регулярной почты тяжелым бременем отражается как на благосостоянии промышленников пушнины, кости мамонтовой и проч., так и скупщиков таковых предметов... Случается, что по приходу парохода с. Булуна в Якутск пушнина, кость и прочее понижаются в цене» (34).
Как явствует из документа, заинтересованность в модернизации и открытии стационарного отделения вызывалась не только возросшими потребностями населения ряда поселений на Лене и Яне. В этом было прямо заинтересовано и купечество. Характерно, что подписавшие «Общественный приговор» обязались, в случае положительного решения вопроса, предоставить в распоряжение начальника почтовой конторы бесплатную квартиру и выплачивать ему ежегодно по 100 рублей наличными.
Вернемся теперь к заметкам В. М. Зензинова, который в своей книге попытался тогда дать экономический анализ взаимосвязи между плачевным положением почтового дела и коммерческой конъюнктурой. В своих очерках автор, которому трудно отказать в аналитическом мышлении, сообщает, в частности, и о том, что булунский сельский сход впоследствии возвратился к наболевшей проблеме. Тогда появился новый вариант «Приговора», Описывая ситуацию, В. М. Зензинов коснулся вначале положения с почтовой службой в целом:
«Низкие цены на песца в тундре и та большая разница, которая обычно существует между покупной ценой на месте и продажной в Якутске, в значительной степени зависят от отсутствия сношений между севером и Якутском. Правильная зимняя почта — дважды в месяц — существует только в Верхоянске; ни в Булуне, ни в Казачьем (не говоря уже об Индигирке и Западе) до сих пор нет почтовых отделений, хотя эти два пункта нужно считать центрами торговой жизни всего этого северного района. До Индигирки письмо может дойти из Якутска через Иногородние Управы только один раз в году, до Булуна и Казачьего — за зиму раза четыре, причем письмо из Якутска может идти несколько меся-дев. В далекой тундре нет и этого, так как для живущих там кочевников самые Булун с Казачьим кажутся далекими, недостижимыми центрами я в установлении здесь цен на пушнину купец является полным хозяином...»
Местное купечество достаточно ясно понимает, какое значение для края могли бы иметь правильные почтовые сношения Севера с Якутском. В 1912 г. в Булуне поднимался вопрос об открытии почтового отделения, причем улус высказывал желание половину расходов по первоначальному обзаведению взять на себя. (Согласно почтовым правилам, в случае желания открыть новое почтовое отделение местное население обязано предста-вить в распоряжение почтового ведомства на первые три года бесплатную квартиру с отоплением, освещением и сторожем). Купечество посмотрело на дело иначе. Вот что говорит об этом приговор булунского сельокого схода от 16 ноября 1912 г., выдержку из которого привожу буквально: «Купцы, торгующие по Устьянскому и Верхоянскому улусам, осенью сего года заявили словесно Жиганской Инородной Управе о том, что, если откроется правительственное почтовое отделение и установится правильное зимнее почтовое сношение с Якутском и Верхоянском, благодаря чему они будут получать почтовые сведения и о ценах на пушнину улуса, что на материальном положении улуса отразится благоприятно, почему они (т. е. купцы) совершенно отказываются от помощи по содержанию квартиры с отоплением и освещением для отделения, а должны всецело относить местный улус и для которого важен вопрос открытия почтового отделения» (35).
Приведя этот документ, говорящий сам за себя, В. М. Зензинов приходит к логическому выводу:
«Мотивировка отказа высказана здесь купечеством откровенно. И не менее ясно выразилось в ней понимание купцами своих интересов: нам выгодно, если населению живется плохо, и не в наших расчетах поднимать, его благосостояние... Благодаря противодействию купцов вопрос об открытии в Булуне почтового отделения в 1912 г. провален» (36).
Как развивались события в последующие годы, можно только догадаться: документальные сведения за этот период, недостаточны. Но в том же 1916 г., когда в Москве была выпущена книга Зензинова, Главное управление почт и телеграфов в Петрограде издало свой очередной «Список местных учреждений почтово-телеграфного ведомства. В нем в числе действующих зарегистрировано и отделение в Булуне. Указано также, что-непосредственный обмен почтой последний производил через почтово-телеграфную контору в Якутске.
Однако в последующий период почтовая служба в низовьях Лены почти бездействовала. После Октябрьской революции Булун пережил, пять антисоветских мятежей. Лишь 10 декабря 1930 г. Булунскнй район был преобразован в самостоятельную административно-территориальную единицу.
Интересно, что с названием поселка ассоциируется ряд достижений Аэрофлота. Дело в том, что Булун вместе с соседним селением Кюсюр играл в 30-е годы важную торговую роль в жизни якутского Севера. Первым сел в Булуне 18 августа 1929 г. самолет известного тогда летчика О. А. Кальвица, совершившего перелет со стороны Чукотки. В 40-е годы на Булуноком аэродроме стали садиться рейсовые самолеты — здесь заканчивалась одна из самых северных трасс гражданской авиации Якутск — Булун. Это определило особую судьбу поселка в аэрофилателии. И сам пункт, и схема трассы изображены на почтовой марке, выпущенной в 1959 г. в серия «Авиапочта».
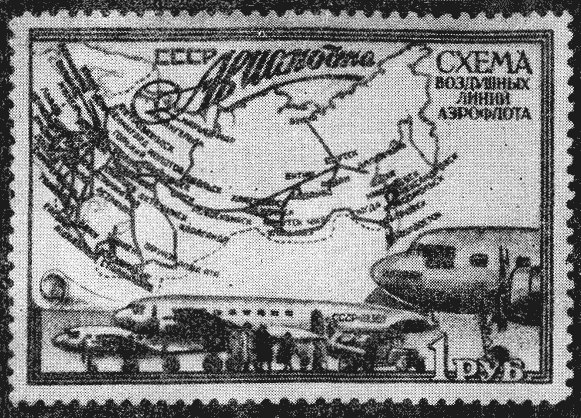
Некогда в поселок Булун летали самолеты |
Булунский районный узел связи функционировал до 1958 г. Он был переведен вначале в расположенный на правой стороне Лены, прямо напротив Булуна, поселок Кюсюр. В прошлом — купеческое селение, насчитывавшее перед первой мировой войной около 15 домов, Кюсюр вырос в крупное эвенское село. Позже Булунокий узел связи снова передислоцировался в новый административный центр Булунского района — Тикси. А отделение в Булуне существовало до конца 1959 г., пока сам поселок не прекратил существование. Осталось лишь несколько старых домиков на берегу Лены. Но анахронизм живуч; за районом сохраняется название несуществующего населенного пункта.
Тикси основан как арктический порт в 1934 г. Поселок вырос близ устья Лены, точнее — у восточного края огромной ленской дельты, на 72° северной широты. Он стал главными «морскими воротами» Якутии. Исключительно удобная бухта, означающая по-якутски «пристань» или «убежище», была как бы самой природой предназначена для устройства порта. С годами поселок строителей, метеорологов, моряков и авиаторов разрастался, но еще в 50-е годы население Тикси пользовалось услугами одного-единственного отделения связи.
Еще в середине 30-х годов положение на этом почтовом маршруте было довольно сложным. Интересные подробности о почтовом сообщении между Тикси и Якутском содержатся в путевых очерках «На оленях по Якутии», опубликованных в 1938 г. (37). Автор очерков, зимовавший на одной из полярных станций, прибыл морем в Тикси, чтобы добраться оттуда до Якутска. Около трех месяцев ждал он со своими спутниками санного пути, чтобы отправиться в дальнюю дорогу.
Основным видом транспорта в зимнее время были здесь почтовые олени. Путь, который предстояло пройти от стоянки к стоянке до Якутска, составлял 3500 км. Список отъезжающих вел заведующий почтовым отделением Тикси. По мере прибытия оленьих упряжек из Булуна он отправлял почту, грузы и пассажиров. Ямщики на тракте состояли исключительно из местного населения — якутов. Нередко среди ямщиков встречались старики или молодые парнишки, лет по 13—15 а иногда даже и женщины.
Отдыхали по 20—30 мин. на стоянках. На каждой стоянке, даже если землянка необитаема, непременно пили чай. Встречались и стоянки, на которых проживало несколько семей притрактовых ямщиков. Время от времени происходила смена ямщиков. Дорога шла вначале через бескрайнюю тундру, затем полосами пошла тайга, а далее ехали по реке Лене. По пути миновали городок Жиганск — районный центр, имеющий свое почтовое отделение, на полпути между устьем Лены и Якутском... Дом, в котором расположена "почта, был одним из самых больших в Жиганске. В одной комнате-контора, в другой жил начальник почтового отделения. В Средневилюйске также имелось почтовое отделение. Отсюда до Якутска оставалось около 700 км, или 6—7 дней пути. Когда путешественники миновали после Вилюйска несколько станков, оленей сменили лошади. А далее до самого Якутска добирались на лошадях...
Вот какие сложности были связаны с почтовым сообщением на таком важном маршруте, как Якутск — Тикси. Ни о какой регулярности в доставке почты говорить не приходилось. А уже шли 30-е годы. И в этих условиях положение могла поправить только авиация.
Одним из пионеров воздушной почты на якутском Севере был полярный летчик А. Н. Грацианский. Вспоминая впоследствии о якутских страницах своей летной биографии, он описал первый почтовый рейс по маршруту Якутск — Сангар —Жиганск — Булун —Тикси. То был перелет на гидросамолете летом 1935 г.: «Наступление летнего тепла ощущалось все меньше. Но тепло дарили нам люди — жители Сангар, Жиганска, Булуна. Если в якутскую столицу уже постоянно летали самолеты из Иркутска, то для здешних обитателей это было пока только мечтой. И вот она осуществилась: еще тысяча семьсот километров вдоль Лены до ее впадения в океан охватывались постоянным -воздушным сообщением... Мы везли пока лишь почту» (38).
В наше время Тикси стал главным центром воздушной почты на якутском побережье Северного Ледовитого океана. Здесь же — и местонахождение Булунского районного узла связи. Это дает основание называть поселок «столицей нижнеленской почты». В 60-е годы в райцентре -происходила не всеми замеченная смена почтовых штемпелей — исчезли старые наименования: «Порт Тикси», «Бухта Тикси». Численность почтовых отделений в районе нестабильна. Почта в Сого, находившаяся в 14 км от порта, просуществовала чуть более 20 лет и закрылась в конце 60-х годов. Поселок имел значение в связи с рудником, вступившим в строй 1 июля 1943 г. в районе реки Сого и поставлявшим уголь в Тикси.
Исследование истории почты Булунского района, то есть прибрежной зоны Северного Ледовитого океана, представляет значительный интерес. Почтовое обращение здесь всегда носило «камерный» характер. Кюсюр, Тит-Ары, Сагастыр, Быков Мыс и т.д.... Своеобразный мир «микропочты» — явление, совершенно несвойственное, скажем, почте Верхоянского района, но весьма примечательное для характеристики почтовой ситуации здесь, в устье Лены, напоминающем по размаху устье Миссисипи. В малонаселенных селениях обширной дельты проживают эвены н эвенки, юкагиры и чукчи. Русское население сосредоточено больше в рыбачьих поселках, главным образом, в поселке — Быков Мыс. Есть, еще охотничий участок Тит-Ары, где почтовое отделение было восстановлено в 1942 г., когда здесь открылся рыбозавод. Еще есть Сагастыр... И всюду — почта.
Штемпеля местных почт берегут память об интересных, старых названиях. Например, один из старейших топонимов Якутии — Быков мыс. Это название, однако, сохранившись на штемпеле заказной регистрации, предстает на календарном штемпеле видоизмененным (по названию поселка): Быковский. Интересен штемпель, отделения связи Тит-Ары, действующего с послевоенных лет. Это название укрепилось за клочком арктической суши — островком на Лене. «Тит» — по-якутски лиственница, «Ары» — остров. Само название острова говорит якуту о многом: здесь можно отдохнуть, согреться у костра, потому что на острове имеются деревья... Название несет и другую информацию: поскольку островные деревья—лиственницы, а они не переносят затопления, этот остров, стало быть, гарантирует безопасность — его и в паводок не заливает вода.
В 40-е — 50-е годы все эти пункты, а также национальные наслеги в бассейне Лены и Оленёка — Чекуровка и Тюмяти, в которых уже не существует почты — были связаны единой почтовой сетью. Здесь использовались оленьи и собачьи упряжки. Судьба маленького селения Тюмяти, приютившегося на левом берегу реки Оленек у слияния с речкой Бур, в 300 км от Кюсюра, — это пример «угасания» населенного пункта, а вместе с ним и почты.
В этих местах побывал еще в середине 40-х годов известный советский художник-маринист Игорь Рубан. (Это он создал серию почтовых марок «Дрейфующая станция «Северный полюс» по своим эскизам, выполненным в лагере зимовщиков станции СП-4). Находясь в первой творческой командировке в Якутии, И. Рубан посетил и северное селение Тюмяти. На одной из его персональных выставок демонстрировался, карандашный рисунок, сделанный в этом селении. В подписи к рисунку художник пояснял: «Август 1944 г. Селение полностью сохранило облик мест царской ссылки. Полное бездорожье. Маленькие срубы с дырами вместо окон, затянутыми (по типу якутских тордох) летом пузырем, а зимой с вмороженной в них льдинкой, плоскими крышами и каменным очагом посередине».... Старый Тюмяти отжил свое на пустынном берегу Оленёка. Не вписавшись в современную жизнь, угас. И уже не встретится селение в почтовых списках, регистрирующих отделения связи Якутии.
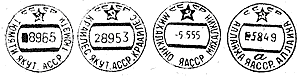
Штемпеля закрывшихся почтовых отделений
(Второй период эволюции штемпелей) |
Начало реконструкций почтовой связи на якутском Севере было положено в 1929—1932 гг. И уже велся подсчет сухопутных почтовых трактов 1928/29 г. —3357 км, 1929/30 г. —3902 км, 1930/31 г. —7052 км (39). И вместе с тем было совершенно очевидно, что справиться
в полном объеме со своей задачей сухопутные тракты в силу сезонности не в состоянии. Не колесному транспорту она по силам. Четкая платформа на этот счет была у изданного в 1927 г. Академией наук СССР фундаментального сборника статей «Якутия». В нем выступили крупнейшие специалисты по Якутии того времени, при- чем отдельный очерк посвящался путям сообщения. Его автор И. Ф. Молодых отмечал:
«При положении, когда между снежными населенными пунктами расстояния достигают сотен верст, когда на всем этом расстоянии нет ни одного поселения, где бы явилось возможным произвести хотя бы заготовку корма для лошадей, когда на всем протяжении путь пролегает через глухую, северную девственную тайгу — без намека на культуру, без следа современного человека, — ясно, что ни о каком другом сообщении, кроме местных вьючных или нартовых передвижений на оленях, не может быть и речи» (40). «Поэтому становится совершенно понятным, что первыми путями сообщения явились реки: по рекам двинулись колонисты и осели на их берегах, — почти все населенные пункты расположены у воды» (41).
далее: МЕЖДУ ЛЕНОЙ И ЯНОЙ
|
|