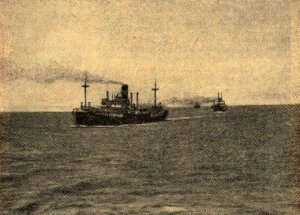1929: Карская экспедиция 1929 года
М.И. Белов. История открытия и освоения Северного Морского пути. Том III. Ленинград: изд-во «Морской транспорт», 1959 г. стр. 372-375.
Первой крупной транспортной операцией этого рода явилась экспедиция 1929 г.{1}.
Карская экспедиция 1929 г.
Подготовка к этой Карской экспедиции развернулась в обстановке, когда над странами капиталистического мира нависла угроза жестокого экономического кризиса. Вместе с тем успешное развитие народного хозяйства СССР побуждало деловые круги Западной Европы идти на расширение внешнеторговых связей с Советским Союзом.
По своему объему данная Карская экспедиция превзошла предыдущие экспедиции; ее экспорт исчислялся в 60 тысяч тонн, что равнялось двум третям аналогичной статьи Карских экспедиций за предшествовавшие восемь лет. Для вывоза грузов было зафрахтовано 26 пароходов (за первые 8 лет устья Оби и Енисея посетило 42 морских парохода).
В прежние годы суда прибывали к месту назначения одновременно. В новых условиях приход сразу 26 пароходов в порты загрузки нельзя было считать целесообразным. Это потребовало бы увеличить вдвое тоннаж речного флота и к тому же при недостатке рабочей силы на Севере крайне осложнило бы погрузочно-разгрузочные операции. Выход из трудного положения нашли местные работники. Речники Енисейского и Обского бассейнов вместо обычного одного рейса решили выполнить два-три рейса за навигацию, что при имевшемся налицо количестве судов могло обеспечить намеченную программу перевозок. В дельте Малой Оби выбрали место для промежуточной перевалочной базы, удобное для подхода судов, – мыс Халас-Пугор, откуда речные суда, оставив свой груз, возвращались на сибирские базы за новым грузом. Вторым рейсом они забирали груз с мыса и доставляли его в Новый порт. Таким образом, к моменту прибытия морских судов в Новом порту удалось сосредоточить необходимое количество экспортных грузов.
На Енисее основным портом погрузки стала Игарка, расположенная в глубине материка, что позволяло речным судам совершать по три рейса.
Серьезные изменения претерпел распорядок прибытия морских судов в сибирские порты. Было решено проводить суда группами, которые возглавили групповые капитаны, назначенные из числа опытных советских судоводителей. Для прибытия судов устанавливались строгие календарные сроки.
Новый порядок проводки потребовал организации четкой службы линейного ледокола, который в случае нужды должен был форсировать льды Карского моря, открывая путь для транспортных судов. Содержание линейного ледокола благодаря возросшему грузообороту Карской экспедиции стало экономически оправданным. В навигацию 1929 г. Карскую экспедицию обслуживал линейный ледокол «Красин»
{1} О Карской экспедиции 1929 г. см. Н. И. Евгенов. Карские морские экспедиции на новом этапе. «Морской сборник», 1931 № 1; Н. И. Евгенов. Морская Карская экспедиция 1929 г., «Записки по гидрографии», 1929 г., т. 58; Н. Воеводин. Северный морской путь (Итоги 10 лет Карских экспедиций). «Советская Азия», 1930, № 3–4, Н. Сибирцев и В. Итин. Указ. соч., стр. 100–101; Н. И. Евгенов. Морская Карская экспедиция 1929 г. (ЦА ММФ, ф. КСМП, оп. 12, д. -8); Анализ движения морских судов в Карской экспедиции 1929 г. (ЦА ММФ, ф. КСМП, оп. 12, д. -8); Н. И. Евгенов. Предварительный отчет начальника Карской морской экспедиции о работах научно-исследовательских групп и Бюро погоды на ледоколе «Красин» за время его участия в экспедиции 1929 г. (ЦА ММФ, ф. КСМП, оп. 12, д. -8).
[372]
(капитан М.Я. Сорокин). Вместо судна-разведчика, которым длительное время служил ледокольный пароход «Малыгин», использовался самолет «Комсеверопуть-1» (пилот Б.Г. Чухновский).
С этого года ледовая авиаразведка стала ежегодной.
В продолжение всего плавания на ледоколе «Красин» работало метеорологическое бюро, состоявшее из двух синоптиков: Э. П. Пуйше, Г.Я Вангенгейма. Бюро не только составляло обычные метеосводки, но давало прогнозы погоды, оказавшиеся весьма удачными. Начальник Карской экспедиции Н. И. Евгенов неоднократно отмечал успешную деятельность бюро. На борту ледокола находилась также группа гидрологов (А. С. Чечулин и Ю. К. Алексеев), выполнившая сорок глубоководных гидрологических станций. Гидрологическая группа вела наблюдения за движением льдов, составляла карты их расположения. Эти и другие меры, предусмотренные правлением «Комсеверопути», обеспечили успешную проводку морских судов в порты Сибири и своевременное возвращение их в Западную Европу.
Морскую навигацию открыли ледокольные суда. Лидер экспедиции – ледокол «Красин» 30 июля прибыл в Югорский Шар. 31 июля первая группа морских транспортных судов, пришедшая из портов Германии, достигла о. Вайгач и под проводкой ледокола вошла через Югорский Шар в Карское море. В юго-западной части моря льды не встретились, кромка льда показалась только на параллели острова Белого, но входа в Обскую губу она не затруднила. Несколько позднее ледовую разведку южной части Карского моря предпринял Б.Г. Чухновский на самолете. К сожалению, 19 августа, во время полета от Югорского Шара к острову Диксон, самолет потерпел аварию и вышел из строя. Машину в открытом море подобрал пароход «Л. Красин» и доставил на остров Диксон, откуда после небольшого ее ремонта Б.Г. Чухновский совершил полет в сторону Северной Земли. Во время полета он наблюдал большие пространства свободного ото льда моря.
Тем временем к новоземельским проливам прибывали новые группы судов. В сопровождении ледокола они благополучно и в намеченный срок приходили в сибирские порты, а затем группами возвращались назад. Ледокол бороздил Карское море много раз и по разным направлениям.
В первой половине сентября, в самый разгар экспедиции, разведка «Красина» в сторону Маточкина Шара предупредила о приближении тяжелых льдов с севера. При северных ветрах они могли создать неблагоприятные условия для судов, идущих южными проливами. В связи с этим было решено предпринять поход к мысу Желания для выяснения возможности плавания вокруг северной оконечности Новой Земли на случай закрытия южных проливов. Вскоре «Персей» и «Г. Седов» выяснили, что район северной оконечности Новой Земли свободен ото льдов, и, таким образом, морские суда в случае необходимости могли пройти севернее Новой Земли, тем более, что этот путь короче, чем через Югорский Шар.
12 сентября ледокол «Красин» прибыл на о. Диксон, установив по пути, что к северу от Оби и Енисея вода значительно прогрета по всей толще, и опасаться быстрого замерзания не приходится. От острова Диксон М. Я. Сорокин намеревался пройти к мысу Желания. Но для проводки очередной группы транспортных судов, подходивших из Игарки, у ледокола не хватало угля. Пришлось поход на север отложить и направиться вместе с судами в Югорский Шар, куда должен был подойти угольщик и где ледокол мог пополнить запасы топлива.
17 сентября в 40 милях от Югорского Шара «Красин» встретил торосистые ледяные поля, принесенные сюда с севера. Они могли ока-
[373]
заться серьезным препятствием не только для транспортных судов, но и для ледокола. К счастью, стояли безветренные дни, и лед, надвигавшийся с севера, так и не подошел к южным проливам.
Последняя группа судов Карской экспедиции, задержавшихся в речных портах, покинула Карское море 4 октября, только ледокольный пароход «Сибиряков» задержался там некоторое время {1}.
Столь крупная морская операция была осуществлена впервые в истории Карского морского пути. Она положила начало регулярной эксплуатации этого пути. Посылка мощного ледокола вполне себя оправдала: он появлялся на самых трудных участках и всюду успешно преодолевал льды.
В результате успеха этой Карской экспедиции резко снизились ставки страхования судов и грузов (см. табл. 17).
Иными словами, если в 1921 г. страховка морского корабля стоимостью в 250 000 рублей обходилась в 17 500 рублей, то в 1929 г. за это судно приходилось платить только 5625 рублей. По всей массе грузов Карской экспедиции общая сумма экономии достигла в 1929 г. 126 500 рублей {3}.
При вывозе за границу стоимость перевозки одной тонны сибирских товаров обходилась по железной дороге через Ленинград 60 рублей 82 копейки, по Северному морскому пути – 44 рубля 64 копейки. Стоимость провоза одного стандарта пиломатериалов из Красноярска в Лондон Северным морским путем составляла 69 рублей против 151 рубля через Ленинградский порт {4}.
Сокращение накладных расходов и страховых ставок свидетельствовало об успехах, достигнутых в освоении северных морей. По всем своим экономическим показателям Карский морской путь стал в один ряд с давно освоенной морской дорогой из Архангельска в Европу. Он превращался в обычную водную магистраль. Таков был итог десятилетней работы советских моряков. Без иностранной помощи, проявляя незаурядный героизм и мужество, они поставили на службу социалистическому государству арктический морской путь.
Нужно заметить, что с 1929 г. Карские экспедиции нельзя считать экспедициями в полном смысле слова. С введением в их состав линейного
{1} ЦА ММФ, ф. а/о «Комсеверопуть» оп. 1, д. 47, лл. 183–200.
{2} Н. Воеводин. Северный морской путь. «Северная Азия». 1930, № 3–4, стр. 103.
{3} Там же, стр. 103–106.
{4} Там же, стр. 104.
[374]
ледокола, с расчленением транспортных судов на отдельные группы, каждая из которых имела своего начальника в лице старшего капитана, график прибытия и отхода, вся операция в целом утратила прежний экспедиционный характер и форму. Что касается экономической стороны Карских операций, то с превращением их в хорошо освоенное хозяйственное мероприятие они также утратили значение экспедиции, которая обычно имеет эпизодический смысл, в данном же случае, с финансовой точки зрения – это были обыкновенные морские транспортно-хозяйственные операции Наркомвнешторга.
В литературе можно встретиться с указанием на то, что с конца 20-х годов собственно Карские экспедиции прекратились и с этого времени осуществлялись морские операции. Однако такая замена одного названия другим не вскрывает существа дела. В новых условиях эксплуатация арктического морского пути, т.е. решение транспортной задачи, потребовало сложной организации, включая привлечение больших научных сил, ледокольных кораблей и авиации. Поэтому было бы более правильным, начиная с 1929 г., именовать Карские морские экспедиции Карскими арктическими рейсами. Но чтобы не вносить новыми определениями известную сложность, в данной работе за нами в дальнейшем сохранено общепринятое название экспедиций.
Карская экспедиция 1929 г.
Подготовка к этой Карской экспедиции развернулась в обстановке, когда над странами капиталистического мира нависла угроза жестокого экономического кризиса. Вместе с тем успешное развитие народного хозяйства СССР побуждало деловые круги Западной Европы идти на расширение внешнеторговых связей с Советским Союзом.
По своему объему данная Карская экспедиция превзошла предыдущие экспедиции; ее экспорт исчислялся в 60 тысяч тонн, что равнялось двум третям аналогичной статьи Карских экспедиций за предшествовавшие восемь лет. Для вывоза грузов было зафрахтовано 26 пароходов (за первые 8 лет устья Оби и Енисея посетило 42 морских парохода).
В прежние годы суда прибывали к месту назначения одновременно. В новых условиях приход сразу 26 пароходов в порты загрузки нельзя было считать целесообразным. Это потребовало бы увеличить вдвое тоннаж речного флота и к тому же при недостатке рабочей силы на Севере крайне осложнило бы погрузочно-разгрузочные операции. Выход из трудного положения нашли местные работники. Речники Енисейского и Обского бассейнов вместо обычного одного рейса решили выполнить два-три рейса за навигацию, что при имевшемся налицо количестве судов могло обеспечить намеченную программу перевозок. В дельте Малой Оби выбрали место для промежуточной перевалочной базы, удобное для подхода судов, – мыс Халас-Пугор, откуда речные суда, оставив свой груз, возвращались на сибирские базы за новым грузом. Вторым рейсом они забирали груз с мыса и доставляли его в Новый порт. Таким образом, к моменту прибытия морских судов в Новом порту удалось сосредоточить необходимое количество экспортных грузов.
На Енисее основным портом погрузки стала Игарка, расположенная в глубине материка, что позволяло речным судам совершать по три рейса.
Серьезные изменения претерпел распорядок прибытия морских судов в сибирские порты. Было решено проводить суда группами, которые возглавили групповые капитаны, назначенные из числа опытных советских судоводителей. Для прибытия судов устанавливались строгие календарные сроки.
Новый порядок проводки потребовал организации четкой службы линейного ледокола, который в случае нужды должен был форсировать льды Карского моря, открывая путь для транспортных судов. Содержание линейного ледокола благодаря возросшему грузообороту Карской экспедиции стало экономически оправданным. В навигацию 1929 г. Карскую экспедицию обслуживал линейный ледокол «Красин»
{1} О Карской экспедиции 1929 г. см. Н. И. Евгенов. Карские морские экспедиции на новом этапе. «Морской сборник», 1931 № 1; Н. И. Евгенов. Морская Карская экспедиция 1929 г., «Записки по гидрографии», 1929 г., т. 58; Н. Воеводин. Северный морской путь (Итоги 10 лет Карских экспедиций). «Советская Азия», 1930, № 3–4, Н. Сибирцев и В. Итин. Указ. соч., стр. 100–101; Н. И. Евгенов. Морская Карская экспедиция 1929 г. (ЦА ММФ, ф. КСМП, оп. 12, д. -8); Анализ движения морских судов в Карской экспедиции 1929 г. (ЦА ММФ, ф. КСМП, оп. 12, д. -8); Н. И. Евгенов. Предварительный отчет начальника Карской морской экспедиции о работах научно-исследовательских групп и Бюро погоды на ледоколе «Красин» за время его участия в экспедиции 1929 г. (ЦА ММФ, ф. КСМП, оп. 12, д. -8).
[372]
(капитан М.Я. Сорокин). Вместо судна-разведчика, которым длительное время служил ледокольный пароход «Малыгин», использовался самолет «Комсеверопуть-1» (пилот Б.Г. Чухновский).
С этого года ледовая авиаразведка стала ежегодной.
В продолжение всего плавания на ледоколе «Красин» работало метеорологическое бюро, состоявшее из двух синоптиков: Э. П. Пуйше, Г.Я Вангенгейма. Бюро не только составляло обычные метеосводки, но давало прогнозы погоды, оказавшиеся весьма удачными. Начальник Карской экспедиции Н. И. Евгенов неоднократно отмечал успешную деятельность бюро. На борту ледокола находилась также группа гидрологов (А. С. Чечулин и Ю. К. Алексеев), выполнившая сорок глубоководных гидрологических станций. Гидрологическая группа вела наблюдения за движением льдов, составляла карты их расположения. Эти и другие меры, предусмотренные правлением «Комсеверопути», обеспечили успешную проводку морских судов в порты Сибири и своевременное возвращение их в Западную Европу.
Морскую навигацию открыли ледокольные суда. Лидер экспедиции – ледокол «Красин» 30 июля прибыл в Югорский Шар. 31 июля первая группа морских транспортных судов, пришедшая из портов Германии, достигла о. Вайгач и под проводкой ледокола вошла через Югорский Шар в Карское море. В юго-западной части моря льды не встретились, кромка льда показалась только на параллели острова Белого, но входа в Обскую губу она не затруднила. Несколько позднее ледовую разведку южной части Карского моря предпринял Б.Г. Чухновский на самолете. К сожалению, 19 августа, во время полета от Югорского Шара к острову Диксон, самолет потерпел аварию и вышел из строя. Машину в открытом море подобрал пароход «Л. Красин» и доставил на остров Диксон, откуда после небольшого ее ремонта Б.Г. Чухновский совершил полет в сторону Северной Земли. Во время полета он наблюдал большие пространства свободного ото льда моря.
Тем временем к новоземельским проливам прибывали новые группы судов. В сопровождении ледокола они благополучно и в намеченный срок приходили в сибирские порты, а затем группами возвращались назад. Ледокол бороздил Карское море много раз и по разным направлениям.
В первой половине сентября, в самый разгар экспедиции, разведка «Красина» в сторону Маточкина Шара предупредила о приближении тяжелых льдов с севера. При северных ветрах они могли создать неблагоприятные условия для судов, идущих южными проливами. В связи с этим было решено предпринять поход к мысу Желания для выяснения возможности плавания вокруг северной оконечности Новой Земли на случай закрытия южных проливов. Вскоре «Персей» и «Г. Седов» выяснили, что район северной оконечности Новой Земли свободен ото льдов, и, таким образом, морские суда в случае необходимости могли пройти севернее Новой Земли, тем более, что этот путь короче, чем через Югорский Шар.
12 сентября ледокол «Красин» прибыл на о. Диксон, установив по пути, что к северу от Оби и Енисея вода значительно прогрета по всей толще, и опасаться быстрого замерзания не приходится. От острова Диксон М. Я. Сорокин намеревался пройти к мысу Желания. Но для проводки очередной группы транспортных судов, подходивших из Игарки, у ледокола не хватало угля. Пришлось поход на север отложить и направиться вместе с судами в Югорский Шар, куда должен был подойти угольщик и где ледокол мог пополнить запасы топлива.
17 сентября в 40 милях от Югорского Шара «Красин» встретил торосистые ледяные поля, принесенные сюда с севера. Они могли ока-
[373]
заться серьезным препятствием не только для транспортных судов, но и для ледокола. К счастью, стояли безветренные дни, и лед, надвигавшийся с севера, так и не подошел к южным проливам.
Последняя группа судов Карской экспедиции, задержавшихся в речных портах, покинула Карское море 4 октября, только ледокольный пароход «Сибиряков» задержался там некоторое время {1}.
Столь крупная морская операция была осуществлена впервые в истории Карского морского пути. Она положила начало регулярной эксплуатации этого пути. Посылка мощного ледокола вполне себя оправдала: он появлялся на самых трудных участках и всюду успешно преодолевал льды.
В результате успеха этой Карской экспедиции резко снизились ставки страхования судов и грузов (см. табл. 17).
- Таблица 17
Периоды/Страховые ставки в % от стоимости грузов {2}
на море(суда/грузы)/на реках (суда/грузы)
До революции . . . . . . . . . . . . . . 8 6 – 6,5
1921 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 Не страховались
1924 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,75 2,75 1,84 4,25
1929 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,25 0,8 1,45 0,4
Иными словами, если в 1921 г. страховка морского корабля стоимостью в 250 000 рублей обходилась в 17 500 рублей, то в 1929 г. за это судно приходилось платить только 5625 рублей. По всей массе грузов Карской экспедиции общая сумма экономии достигла в 1929 г. 126 500 рублей {3}.
При вывозе за границу стоимость перевозки одной тонны сибирских товаров обходилась по железной дороге через Ленинград 60 рублей 82 копейки, по Северному морскому пути – 44 рубля 64 копейки. Стоимость провоза одного стандарта пиломатериалов из Красноярска в Лондон Северным морским путем составляла 69 рублей против 151 рубля через Ленинградский порт {4}.
Сокращение накладных расходов и страховых ставок свидетельствовало об успехах, достигнутых в освоении северных морей. По всем своим экономическим показателям Карский морской путь стал в один ряд с давно освоенной морской дорогой из Архангельска в Европу. Он превращался в обычную водную магистраль. Таков был итог десятилетней работы советских моряков. Без иностранной помощи, проявляя незаурядный героизм и мужество, они поставили на службу социалистическому государству арктический морской путь.
Нужно заметить, что с 1929 г. Карские экспедиции нельзя считать экспедициями в полном смысле слова. С введением в их состав линейного
{1} ЦА ММФ, ф. а/о «Комсеверопуть» оп. 1, д. 47, лл. 183–200.
{2} Н. Воеводин. Северный морской путь. «Северная Азия». 1930, № 3–4, стр. 103.
{3} Там же, стр. 103–106.
{4} Там же, стр. 104.
[374]
ледокола, с расчленением транспортных судов на отдельные группы, каждая из которых имела своего начальника в лице старшего капитана, график прибытия и отхода, вся операция в целом утратила прежний экспедиционный характер и форму. Что касается экономической стороны Карских операций, то с превращением их в хорошо освоенное хозяйственное мероприятие они также утратили значение экспедиции, которая обычно имеет эпизодический смысл, в данном же случае, с финансовой точки зрения – это были обыкновенные морские транспортно-хозяйственные операции Наркомвнешторга.
В литературе можно встретиться с указанием на то, что с конца 20-х годов собственно Карские экспедиции прекратились и с этого времени осуществлялись морские операции. Однако такая замена одного названия другим не вскрывает существа дела. В новых условиях эксплуатация арктического морского пути, т.е. решение транспортной задачи, потребовало сложной организации, включая привлечение больших научных сил, ледокольных кораблей и авиации. Поэтому было бы более правильным, начиная с 1929 г., именовать Карские морские экспедиции Карскими арктическими рейсами. Но чтобы не вносить новыми определениями известную сложность, в данной работе за нами в дальнейшем сохранено общепринятое название экспедиций.