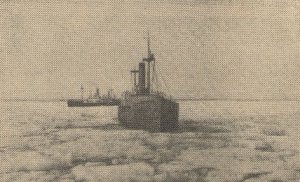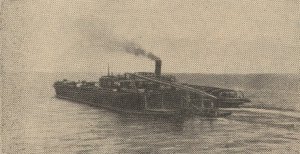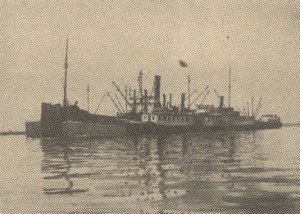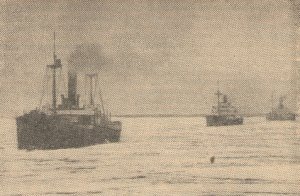1925: Карская экспедиция
М.И. Белов. История открытия и освоения Северного Морского пути. Том III. Ленинград: изд-во «Морской транспорт», 1959 г. стр. 192-199.
Карская экспедиция 1925 г. по своей организации и обеспечению во многом походила на современную организацию арктических плаваний. Это была наиболее крупная и вполне организованная операция своего времени, успешно осуществленная благодаря опыту, накопленному в предшествующие годы.
Еще 5 декабря 1924 г. при Комитете Северного морского пути в Новосибирске было созвано совещание организаций, участвующих в Карской экспедиции для выработки программы действия на предстоящий год. Совещание приняло решение о создании в Новом Порту специального бюро погоды и дало задание Убеко-Сибири по обстановке и ограждению» Обской губы и Енисейского залива. Большое внимание было уделено мероприятиям по улучшению радиосвязи на Севере СССР {1}.
В феврале 1925 г. съезд Убеко-морей в Ленинграде одобрил предложенную Комитетом Северного морского пути программу гидрографических работ в Баренцевом и Карском морях.
18 марта постановление о проведении очередной Карской экспедиции принял Совет Труда и Обороны {2}. Как и в прошлые годы, все ввозимые товары освобождались от таможенных обложений. Однако в отличие от прошлых лет, учитывая уровень изученности и безопасность плавания по Карскому морю, правительство впервые ввело пошлинные сборы на импорт, взимавшиеся в размере 30% от ставок общего таможенного тарифа. Средства, полученные от этих сборов, предполагалось использовать для приобретения новых судов арктического флота. Таким образом, в 1925 г. в устьях сибирских рек было отменено порто-франко. Этот важный шаг советского правительства показывал, что Карские экспедиции становятся безубыточными, а со временем могут стать и прибыльными, и, конечно, такое решение опиралось на довольно высокую для своего времени степень освоенности морского пути.
На основании постановления СТО Наркомвнешторг в апреле утвердил составленную Комитетом Северного морского пути детальную программу и порядок проведения Карской экспедиции. Было установлено необходимое число морских и речных судов, объемы ввоза и вывоза товаров, намечен план ледовой разведки.
Ледовая разведка и ледокольная служба (включая ледовую информацию и действие гидросамолетов) объединялись под общим руководством начальника ледовой разведки и гидрографической партии Карской экспедиции, находившегося на борту ледокольного парохода «Малыгин», который по примеру прошлого года использовался для проводки транспортных судов.
Судовая ледовая разведка 1925 г. производилась силами двух судов: «Малыгина» и «Инея». Первое осуществляло разведку к северо-востоку от Югорского Шара, второе, выйдя из устья реки Енисея, должно было вести наблюдения за льдами к северу от о. Диксон, а затем по направлению к о. Белому. Два гидросамолета, входивших в состав Северной гидрографической экспедиции Главного гидрографического управления ВМС, базируясь в проливе Маточкин Шар, в случае необходимости должны были освещать ледовые условия на среднем участке Карского моря {3}.
Большие работы вели Убеко-Сибирь (начальник Н.Ф. Тимофеевский), Убеко-Север и Северная гидрографическая экспедиция. Судно Комитета Северного морского пути «Разведка» с баржей №11, имея на борту научную группу, намеревалось продолжать прерванные в 1924 г.
{1} О Карской экспедиции 1925 г. см. Доклад Комитета Северного морского пути «Характеристика Северного морского пути как линии морских торговых отношений и его краткая история в прошлом» (ЦА ММФ, ф. КСМП, оп. I, св. 10, д. 8); Краткий отчет по Карской Экспедиции 1925 г. (ЦА ММФ, ф. КСМП, оп. I, св. 10, д. 4); Положение о морской Карской экспедиции 1925 г. (там же); Программа и Порядок проведения Карской экспедиции 1925 г., утвержденные Наркомвнешторгом (ЦА ММФ, ф. КСМП, оп. 1, св. 10, д. 1); Доклад начальника Карской экспедиции 1925 г.; Отчет гиппологической группы на ледокольном пароходе «Малыгин» и др. документы (ЦА ММФ, ф. КСМП, оп. I, св. 12, д. 19).
{2} ПА ММФ, ф. КСМП, оп. I, св. 10, д. I.
{3} На время проводки судов гидросамолеты поступили в распоряжение начальника ледовой разведки. Авиаразведка льдов была впервые применена для проводки Карских экспедиций.
поиски более южного прохода из Обской губы в Енисейский залив. Однако на пути к Гыданскому заливу было встречено скопление льдов, которые вынудили судна повернуть обратно. В оставшееся время эта экспедиция занялась описью Тазовской губы {1}.
Начальником Карской экспедиции 1925 г. был назначен выдающийся советский моряк, капитан дальнего плавания М.В. Николаев. Начальником гидрографической партии и ледовой разведки на борту «Малыгина» являлся видный советский гидрограф Н.И. Евгенов. Ледокольным пароходом «Малыгин» командовал Д. Т. Чертков {2}.
В навигацию 1925 г. Наркомвнешторг зафрахтовал четыре судна: пароходы «Л. Красин», «Я. Свердлов», «Андре Марти» и «Аркос». Эти суда имели дополнительные крепления корпуса и неоднократно участвовали в арктических походах. Из-за задержки с погрузкой в Лондонском порту суда вышли в море вместо 27 июля, как намечалось по плану, только 2 августа. Перед отправлением начальник экспедиции получил из Главной Физической обсерватории и Центрального гидрометбюро ЦУМОР'а сообщение об общих условиях плавания в районах Баренцева и Карского морей, Обской губы и Енисейского залива. По прогнозу ожидалось общее смещение благоприятных условий приблизительно на один месяц вперед по сравнению с обычными (прогноз Б.П. Мультановского). Прогноз ледовых условий плавания в Карском море составил В.Ю. Визе, ожидавший некоторое ухудшение их в сравнении с прежней навигацией, так как прошлое лето по ледовитости было выше нормы; предполагалось, что в текущем году условия будут близки к норме или немножко хуже. В июне В.Ю. Визе составил прогноз на август и сентябрь. По этому прогнозу ожидалась повышенная ледовитость Карского моря и «тяжелое состояние льдов к востоку от устья реки Пясины до мыса Челюскина» {3}. Таким образом, руководству Карской экспедиции надлежало подготовиться к сравнительно сложным условиям плавания. Многое зависело от хорошо налаженной ледовой службы и, прежде всего, от помощи со стороны ледокольного парохода. 9 августа, во время пребывания судов у берегов Норвегии, с ними ледокольным пароходом была установлена радиосвязь, которая не прерывалась ни на один день.
Пока морские суда следовали к Югорскому Шару, «Малыгин», вышедший из Архангельска в конце июля, производил разведку льдов Карского моря. На пути прохода морских судов обстановка оказалась довольно сложной: от Югорского Шара до о. Белый стояли тяжелые льды. Дул сильный ветер северной четверти горизонта, и пока он сохранял свое направление, казалось, улучшения обстановки ждать не приходилось. Но, по мнению гидрографа Евгенова, находившегося на борту «Малыгина», перемену обстановки к лучшему все же можно было ожидать в ближайшие дни.
Начальник экспедиции решил ждать перегруппировки льдов. Перейдя на борт «Малыгина», прибывшего в Югорский Шар, он сам направился на ледовую разведку {4}. Была сделана неудачная попытка найти проход в сплоченных льдах. Повторная разведка «Малыгина», предпринятая 17 августа, также не дала ничего нового. Тем временем:
{1} ЦА ММФ, ф. КСМП, оп. I, дд. 158, 171 и др.
{2} Капитан Д.Т. Чертков в период Великой Отечественной войны погиб на Черном море при исполнении своих служебных обязанностей.
{3} ПА ММФ, ф. КСМП, оп. .1, д. 19, св. 12. Первый прогноз был составлен 10 мая 1925 г.
{4} Н. И. Евгенов. Льды Карского моря в навигацию 1925 г. «Записки по гидрографии», т, 51, л., 1925, стр. 119.
радиостанция Югорского Шара приняла телеграмму о прибытии в Новый Порт Обь-Иртышского каравана.
Дальнейшее промедление стало невозможным. 17 числа суда снялись с якоря и кильватерной колонной последовали в Карское море. С большим трудом, воспользовавшись небольшой полыньей, двигаясь в густом тумане, экспедиция подошла к Ямальскому полуострову. Вблизи лежала кромка льда. Вызванный по радио «Малыгин» все же повел суда малым ходом к о. Белому. Навстречу каравану от о. Диксон вышло гидрографическое судно «Иней». По пути в небольшом расстоянии от каравана оно тоже встретило тяжелые льды. Из донесения гидрографов с «Инея» выяснилось, что проход в Обскую губу преграждает небольшая ледовая перемычка, своего рода ледяной барьер, который следовало либо форсировать, либо обойти с севера. Для разведки обстановки севернее о. Белого начальник экспедиции направил «Малыгин». Пароход, однако, обнаружен не был. Оставалось одно – форсировать ледяной барьер.
Очевидцы утверждают, что это было исключительное зрелище. Впереди шел «Малыгин», за ним морские суда, прочность корпусов и мощность машин которых никак не отвечали условиям плавания в сплоченных арктических льдах. Войдя в лед, «Малыгин» медленно прокладывал дорогу остальным судам. Под действием северного ветра канал за ледокольным пароходом быстро закрывался. Казалось, продвижение вперед немыслимо. Если раньше суда проходили за час 2–3 кабельтова, то теперь они больше стояли, чем двигались вперед. В отчете об экспедиции М. В. Николаев писал: «За последние 35 лет вряд ли наблюдалось такое огромное скопление льдов в Карском море, и присутствие медведей во время нашего похода я объясняю близким соседством полярных льдов».
Штурм перемычки окончился неудачно. Суда под проводкой «Малыгина» вынуждены были отойти назад на чистую воду. При этом пароход «Л. Красин», шедший последним и пытавшийся самостоятельно выйти изо льда, поломал две лопасти гребного винта.
В довершение ко всем бедам 24 августа наступило сильное похолодание. Образование молодого льда резко ухудшило и без того сложные условия плавания. Суда оказались как бы в ледяной ловушке. Вот когда сказалось отсутствие линейного ледокола. На всем видимом пространстве караван окружали сплоченные льды.
Утром 25 числа на «Малыгин», который шел на разведку к о. Белому, поступила тревожная телеграмма от начальника экспедиции: «Лед со всех сторон сближается, скоро некуда будет отступать. Прошу немедленно присоединиться к экспедиции». «Малыгин» сразу же вышел на сближение с караваном. Между тем речные суда стояли в Новом Порту уже одиннадцатый день. Вот когда снова воспрянули духом противники Северного морского пути. В Москву во Внешторг стали прибывать панические телеграммы. Только сообщения из Новосибирска от Комитета Северного морского пути сохраняли уверенность в конечном успехе.
В ответ на телеграмму Наркомвнешторга, высказавшего сожаление по поводу срыва похода морских судов в устья сибирских рек, Комитет Северного морского пути писал: «...исторические закономерности обязательного вскрытия Карского моря в течение всей навигации установлены наукой, многократно проверены нами... Прошу не допускать всякую возможную панику у малосведущих лиц, которая, если произойдет, будет использована врагами наших успехов». Комитет Северного морского пути держался того мнения, что затруднения на трассе следует считать временными и неизбежными, как следствие неблагоприятно сложившейся ледовой обстановки. Основанием для такого оптимистического заключения служили выводы ученых, много лет изучавших режим Карского моря. Это заключение целиком оправдалось.
25 августа устойчивые ветры северной четверти изменили свое направление, и перешли на южную четверть. Сначала подул слабый юго-западный ветер, затем он усилился до 4 баллов. Под действием ветра и приливо-отливных течений тотчас же наступило некоторое разрежение льда {1}.
«Малыгин», направленный на разведку, с помощью «Инея», наблюдавшего за изменением ледяного покрова, обнаружил слабое место в ледовой перемычке. В тот же день, следуя за «Малыгиным», суда вошли в разреженный лед и под его проводкой прошли на чистую воду. 26 августа, обойдя о. Белый, они проследовали в Обскую губу. Пароход «Л. Красин», отделившись от остального отряда, направился в Усть-Енисейский порт, куда благополучно прибыл в полдень 29 августа. «Малыгин» остановился в бухте Тамбей в Обской губе, где и базировался до конца разгрузочных операций. Под проводкой «Инея» 28 августа остальные суда прибыли в Новый Порт.
Перегрузочные работы начались немедленно и велись круглосуточно. Трудовой героизм грузчиков позволил работы на Енисее завершить к 10 сентября и на Оби к 13 сентября. В трюмы судов было погружено только 3122 тонны сельскохозяйственного сырья и 910 165 стандартов леса для экспорта. Речные суда приняли 7102 тонны импортных товаров.
13 сентября Новый Порт покинули последние пароходы «Аркос» и «Андре Марти». Пароход «Я. Свердлов» направился в обратный путь на несколько дней раньше. Соединившись с пароходом «Л. Красин» и «Малыгиным» в районе о. Белого, он вышел из Карского моря через пролив Карские Ворота. «Малыгин» вернулся назад и приступил к разведке льдов от о. Белого в сторону Маточкина Шара. Одновременно Б. Чухновский произвел авиаразведку к востоку от этого пролива. Летчик сообщил,
{1} Н.И. Евгенов. Льды Карского моря в навигацию 1925 г., стр. 126.
что в районе облета море свободно ото льда. Это позволило М. В. Николаеву провести суда проливом Маточкин Шар, который был подробно описан перед этим Северной гидрографической экспедицией. На пути от о. Белого к Маточкину Шару пароход «Аркос», возглавлявший колонну, время от времени пользовался радиопеленгами, что облегчило безошибочное вхождение в пролив. Не имевший радиопеленгатора «Малыгин», двигавшийся значительно впереди судов, подошел к Новой Земле севернее входа в пролив и из-за этого прибыл в Маточкин Шар позже остальных судов. Перед самым входом в пролив суда встретили гидросамолеты.
16 сентября морские суда, приветствуемые небольшой группой сотрудников обсерватории, вошли в Маточкин Шар. Это были первые советские корабли, прибывшие в этот пролив из Карского моря. Встретив л/п «Малыгин», М. В. Николаев отдал распоряжение немедленно идти на запад. 17 сентября на траверсе о. Панькова (западный берег Новой Земли) «Малыгин» отделился от торговых судов и лег курсом на Архангельск. Вскоре была получена телеграмма: «От имени Карской благодарю малыгинцев за услуги, оказанные экспедиций 1925 г. Сердечный привет всем, счастливого плавания и благополучного возвращения в Архангельск. Николаев».
20 сентября суда прошли Тромсе, а 26 числа прибыли в Лондон. Таким образом, плавание закончилось успешно. Импортные и экспортные грузы впервые поступили по назначению и в полной сохранности. Впервые тоннаж судов использовался на 100%. Совершив 6 000-мильный переход, вопреки исключительно неблагоприятной ледовой обстановке, экспедиция успешно выполнила возложенную на нее задачу.
Успех Карской экспедиции 1925 г. в значительной мере надо отнести за счет четкой организации дела. Принцип единоличной ответственности и руководства был проведен от начала до конца экспедиции. Он встретил дружную поддержку всех ее участников, Требования, сформулированные основной программой Карской экспедиции в отношении безопасности кораблевождения, также были выполнены. Все это привело к дальнейшему уменьшению страховых сумм. Сократились также сроки пробега судов и сроки перегрузки в сибирских портах. Но самым важным результатом было то, что при большом размахе операций и неблагоприятном в ледовом отношении годе экспедиция прошла вполне успешно.
Льды Карского моря на протяжении десятилетий служили в устах противников Северного морского пути наиболее веским аргументом против тех, кто ратовал за использование этого пути. Теперь каждый новый год приносил убедительные доказательства, что по Карскому морю можно успешно плавать даже в годы повышенной ледовитости.
По методам организации Карские экспедиции до 1928 г. включительно почти не изменились. Однако накопленный опыт позволял совершенствовать многие важные стороны, наметившиеся еще в прошлые годы. Это касалось, прежде всего, научного обслуживания арктической навигации. Карские экспедиции развивались не только как крупные государственные транспортные предприятия, но и как научные организации, объединяющие усилия ученых разных специальностей – гидрографов, гидрологов, метеорологов, геофизиков, географов. Так была заложена прочная основа содружества моряков и ученых, что в дальнейшем стало одной из главнейших отличительных особенностей всей работы по освоению Арктики.
1926, 1927 и 1928 гг. в истории Карских экспедиций прошли под знаком подготовки к еще более широким транспортным операциям. Они явились хорошей проверкой сил и средств, направляемых Советским государством в Арктику, испытанием стойкости полярников, прокладывавших первые пути в арктических морях.
Еще 5 декабря 1924 г. при Комитете Северного морского пути в Новосибирске было созвано совещание организаций, участвующих в Карской экспедиции для выработки программы действия на предстоящий год. Совещание приняло решение о создании в Новом Порту специального бюро погоды и дало задание Убеко-Сибири по обстановке и ограждению» Обской губы и Енисейского залива. Большое внимание было уделено мероприятиям по улучшению радиосвязи на Севере СССР {1}.
В феврале 1925 г. съезд Убеко-морей в Ленинграде одобрил предложенную Комитетом Северного морского пути программу гидрографических работ в Баренцевом и Карском морях.
18 марта постановление о проведении очередной Карской экспедиции принял Совет Труда и Обороны {2}. Как и в прошлые годы, все ввозимые товары освобождались от таможенных обложений. Однако в отличие от прошлых лет, учитывая уровень изученности и безопасность плавания по Карскому морю, правительство впервые ввело пошлинные сборы на импорт, взимавшиеся в размере 30% от ставок общего таможенного тарифа. Средства, полученные от этих сборов, предполагалось использовать для приобретения новых судов арктического флота. Таким образом, в 1925 г. в устьях сибирских рек было отменено порто-франко. Этот важный шаг советского правительства показывал, что Карские экспедиции становятся безубыточными, а со временем могут стать и прибыльными, и, конечно, такое решение опиралось на довольно высокую для своего времени степень освоенности морского пути.
На основании постановления СТО Наркомвнешторг в апреле утвердил составленную Комитетом Северного морского пути детальную программу и порядок проведения Карской экспедиции. Было установлено необходимое число морских и речных судов, объемы ввоза и вывоза товаров, намечен план ледовой разведки.
Ледовая разведка и ледокольная служба (включая ледовую информацию и действие гидросамолетов) объединялись под общим руководством начальника ледовой разведки и гидрографической партии Карской экспедиции, находившегося на борту ледокольного парохода «Малыгин», который по примеру прошлого года использовался для проводки транспортных судов.
Судовая ледовая разведка 1925 г. производилась силами двух судов: «Малыгина» и «Инея». Первое осуществляло разведку к северо-востоку от Югорского Шара, второе, выйдя из устья реки Енисея, должно было вести наблюдения за льдами к северу от о. Диксон, а затем по направлению к о. Белому. Два гидросамолета, входивших в состав Северной гидрографической экспедиции Главного гидрографического управления ВМС, базируясь в проливе Маточкин Шар, в случае необходимости должны были освещать ледовые условия на среднем участке Карского моря {3}.
Большие работы вели Убеко-Сибирь (начальник Н.Ф. Тимофеевский), Убеко-Север и Северная гидрографическая экспедиция. Судно Комитета Северного морского пути «Разведка» с баржей №11, имея на борту научную группу, намеревалось продолжать прерванные в 1924 г.
{1} О Карской экспедиции 1925 г. см. Доклад Комитета Северного морского пути «Характеристика Северного морского пути как линии морских торговых отношений и его краткая история в прошлом» (ЦА ММФ, ф. КСМП, оп. I, св. 10, д. 8); Краткий отчет по Карской Экспедиции 1925 г. (ЦА ММФ, ф. КСМП, оп. I, св. 10, д. 4); Положение о морской Карской экспедиции 1925 г. (там же); Программа и Порядок проведения Карской экспедиции 1925 г., утвержденные Наркомвнешторгом (ЦА ММФ, ф. КСМП, оп. 1, св. 10, д. 1); Доклад начальника Карской экспедиции 1925 г.; Отчет гиппологической группы на ледокольном пароходе «Малыгин» и др. документы (ЦА ММФ, ф. КСМП, оп. I, св. 12, д. 19).
{2} ПА ММФ, ф. КСМП, оп. I, св. 10, д. I.
{3} На время проводки судов гидросамолеты поступили в распоряжение начальника ледовой разведки. Авиаразведка льдов была впервые применена для проводки Карских экспедиций.
поиски более южного прохода из Обской губы в Енисейский залив. Однако на пути к Гыданскому заливу было встречено скопление льдов, которые вынудили судна повернуть обратно. В оставшееся время эта экспедиция занялась описью Тазовской губы {1}.
Начальником Карской экспедиции 1925 г. был назначен выдающийся советский моряк, капитан дальнего плавания М.В. Николаев. Начальником гидрографической партии и ледовой разведки на борту «Малыгина» являлся видный советский гидрограф Н.И. Евгенов. Ледокольным пароходом «Малыгин» командовал Д. Т. Чертков {2}.
В навигацию 1925 г. Наркомвнешторг зафрахтовал четыре судна: пароходы «Л. Красин», «Я. Свердлов», «Андре Марти» и «Аркос». Эти суда имели дополнительные крепления корпуса и неоднократно участвовали в арктических походах. Из-за задержки с погрузкой в Лондонском порту суда вышли в море вместо 27 июля, как намечалось по плану, только 2 августа. Перед отправлением начальник экспедиции получил из Главной Физической обсерватории и Центрального гидрометбюро ЦУМОР'а сообщение об общих условиях плавания в районах Баренцева и Карского морей, Обской губы и Енисейского залива. По прогнозу ожидалось общее смещение благоприятных условий приблизительно на один месяц вперед по сравнению с обычными (прогноз Б.П. Мультановского). Прогноз ледовых условий плавания в Карском море составил В.Ю. Визе, ожидавший некоторое ухудшение их в сравнении с прежней навигацией, так как прошлое лето по ледовитости было выше нормы; предполагалось, что в текущем году условия будут близки к норме или немножко хуже. В июне В.Ю. Визе составил прогноз на август и сентябрь. По этому прогнозу ожидалась повышенная ледовитость Карского моря и «тяжелое состояние льдов к востоку от устья реки Пясины до мыса Челюскина» {3}. Таким образом, руководству Карской экспедиции надлежало подготовиться к сравнительно сложным условиям плавания. Многое зависело от хорошо налаженной ледовой службы и, прежде всего, от помощи со стороны ледокольного парохода. 9 августа, во время пребывания судов у берегов Норвегии, с ними ледокольным пароходом была установлена радиосвязь, которая не прерывалась ни на один день.
Пока морские суда следовали к Югорскому Шару, «Малыгин», вышедший из Архангельска в конце июля, производил разведку льдов Карского моря. На пути прохода морских судов обстановка оказалась довольно сложной: от Югорского Шара до о. Белый стояли тяжелые льды. Дул сильный ветер северной четверти горизонта, и пока он сохранял свое направление, казалось, улучшения обстановки ждать не приходилось. Но, по мнению гидрографа Евгенова, находившегося на борту «Малыгина», перемену обстановки к лучшему все же можно было ожидать в ближайшие дни.
Начальник экспедиции решил ждать перегруппировки льдов. Перейдя на борт «Малыгина», прибывшего в Югорский Шар, он сам направился на ледовую разведку {4}. Была сделана неудачная попытка найти проход в сплоченных льдах. Повторная разведка «Малыгина», предпринятая 17 августа, также не дала ничего нового. Тем временем:
{1} ЦА ММФ, ф. КСМП, оп. I, дд. 158, 171 и др.
{2} Капитан Д.Т. Чертков в период Великой Отечественной войны погиб на Черном море при исполнении своих служебных обязанностей.
{3} ПА ММФ, ф. КСМП, оп. .1, д. 19, св. 12. Первый прогноз был составлен 10 мая 1925 г.
{4} Н. И. Евгенов. Льды Карского моря в навигацию 1925 г. «Записки по гидрографии», т, 51, л., 1925, стр. 119.
радиостанция Югорского Шара приняла телеграмму о прибытии в Новый Порт Обь-Иртышского каравана.
Дальнейшее промедление стало невозможным. 17 числа суда снялись с якоря и кильватерной колонной последовали в Карское море. С большим трудом, воспользовавшись небольшой полыньей, двигаясь в густом тумане, экспедиция подошла к Ямальскому полуострову. Вблизи лежала кромка льда. Вызванный по радио «Малыгин» все же повел суда малым ходом к о. Белому. Навстречу каравану от о. Диксон вышло гидрографическое судно «Иней». По пути в небольшом расстоянии от каравана оно тоже встретило тяжелые льды. Из донесения гидрографов с «Инея» выяснилось, что проход в Обскую губу преграждает небольшая ледовая перемычка, своего рода ледяной барьер, который следовало либо форсировать, либо обойти с севера. Для разведки обстановки севернее о. Белого начальник экспедиции направил «Малыгин». Пароход, однако, обнаружен не был. Оставалось одно – форсировать ледяной барьер.
Очевидцы утверждают, что это было исключительное зрелище. Впереди шел «Малыгин», за ним морские суда, прочность корпусов и мощность машин которых никак не отвечали условиям плавания в сплоченных арктических льдах. Войдя в лед, «Малыгин» медленно прокладывал дорогу остальным судам. Под действием северного ветра канал за ледокольным пароходом быстро закрывался. Казалось, продвижение вперед немыслимо. Если раньше суда проходили за час 2–3 кабельтова, то теперь они больше стояли, чем двигались вперед. В отчете об экспедиции М. В. Николаев писал: «За последние 35 лет вряд ли наблюдалось такое огромное скопление льдов в Карском море, и присутствие медведей во время нашего похода я объясняю близким соседством полярных льдов».
Штурм перемычки окончился неудачно. Суда под проводкой «Малыгина» вынуждены были отойти назад на чистую воду. При этом пароход «Л. Красин», шедший последним и пытавшийся самостоятельно выйти изо льда, поломал две лопасти гребного винта.
В довершение ко всем бедам 24 августа наступило сильное похолодание. Образование молодого льда резко ухудшило и без того сложные условия плавания. Суда оказались как бы в ледяной ловушке. Вот когда сказалось отсутствие линейного ледокола. На всем видимом пространстве караван окружали сплоченные льды.
Утром 25 числа на «Малыгин», который шел на разведку к о. Белому, поступила тревожная телеграмма от начальника экспедиции: «Лед со всех сторон сближается, скоро некуда будет отступать. Прошу немедленно присоединиться к экспедиции». «Малыгин» сразу же вышел на сближение с караваном. Между тем речные суда стояли в Новом Порту уже одиннадцатый день. Вот когда снова воспрянули духом противники Северного морского пути. В Москву во Внешторг стали прибывать панические телеграммы. Только сообщения из Новосибирска от Комитета Северного морского пути сохраняли уверенность в конечном успехе.
В ответ на телеграмму Наркомвнешторга, высказавшего сожаление по поводу срыва похода морских судов в устья сибирских рек, Комитет Северного морского пути писал: «...исторические закономерности обязательного вскрытия Карского моря в течение всей навигации установлены наукой, многократно проверены нами... Прошу не допускать всякую возможную панику у малосведущих лиц, которая, если произойдет, будет использована врагами наших успехов». Комитет Северного морского пути держался того мнения, что затруднения на трассе следует считать временными и неизбежными, как следствие неблагоприятно сложившейся ледовой обстановки. Основанием для такого оптимистического заключения служили выводы ученых, много лет изучавших режим Карского моря. Это заключение целиком оправдалось.
25 августа устойчивые ветры северной четверти изменили свое направление, и перешли на южную четверть. Сначала подул слабый юго-западный ветер, затем он усилился до 4 баллов. Под действием ветра и приливо-отливных течений тотчас же наступило некоторое разрежение льда {1}.
«Малыгин», направленный на разведку, с помощью «Инея», наблюдавшего за изменением ледяного покрова, обнаружил слабое место в ледовой перемычке. В тот же день, следуя за «Малыгиным», суда вошли в разреженный лед и под его проводкой прошли на чистую воду. 26 августа, обойдя о. Белый, они проследовали в Обскую губу. Пароход «Л. Красин», отделившись от остального отряда, направился в Усть-Енисейский порт, куда благополучно прибыл в полдень 29 августа. «Малыгин» остановился в бухте Тамбей в Обской губе, где и базировался до конца разгрузочных операций. Под проводкой «Инея» 28 августа остальные суда прибыли в Новый Порт.
Перегрузочные работы начались немедленно и велись круглосуточно. Трудовой героизм грузчиков позволил работы на Енисее завершить к 10 сентября и на Оби к 13 сентября. В трюмы судов было погружено только 3122 тонны сельскохозяйственного сырья и 910 165 стандартов леса для экспорта. Речные суда приняли 7102 тонны импортных товаров.
13 сентября Новый Порт покинули последние пароходы «Аркос» и «Андре Марти». Пароход «Я. Свердлов» направился в обратный путь на несколько дней раньше. Соединившись с пароходом «Л. Красин» и «Малыгиным» в районе о. Белого, он вышел из Карского моря через пролив Карские Ворота. «Малыгин» вернулся назад и приступил к разведке льдов от о. Белого в сторону Маточкина Шара. Одновременно Б. Чухновский произвел авиаразведку к востоку от этого пролива. Летчик сообщил,
{1} Н.И. Евгенов. Льды Карского моря в навигацию 1925 г., стр. 126.
что в районе облета море свободно ото льда. Это позволило М. В. Николаеву провести суда проливом Маточкин Шар, который был подробно описан перед этим Северной гидрографической экспедицией. На пути от о. Белого к Маточкину Шару пароход «Аркос», возглавлявший колонну, время от времени пользовался радиопеленгами, что облегчило безошибочное вхождение в пролив. Не имевший радиопеленгатора «Малыгин», двигавшийся значительно впереди судов, подошел к Новой Земле севернее входа в пролив и из-за этого прибыл в Маточкин Шар позже остальных судов. Перед самым входом в пролив суда встретили гидросамолеты.
16 сентября морские суда, приветствуемые небольшой группой сотрудников обсерватории, вошли в Маточкин Шар. Это были первые советские корабли, прибывшие в этот пролив из Карского моря. Встретив л/п «Малыгин», М. В. Николаев отдал распоряжение немедленно идти на запад. 17 сентября на траверсе о. Панькова (западный берег Новой Земли) «Малыгин» отделился от торговых судов и лег курсом на Архангельск. Вскоре была получена телеграмма: «От имени Карской благодарю малыгинцев за услуги, оказанные экспедиций 1925 г. Сердечный привет всем, счастливого плавания и благополучного возвращения в Архангельск. Николаев».
20 сентября суда прошли Тромсе, а 26 числа прибыли в Лондон. Таким образом, плавание закончилось успешно. Импортные и экспортные грузы впервые поступили по назначению и в полной сохранности. Впервые тоннаж судов использовался на 100%. Совершив 6 000-мильный переход, вопреки исключительно неблагоприятной ледовой обстановке, экспедиция успешно выполнила возложенную на нее задачу.
Успех Карской экспедиции 1925 г. в значительной мере надо отнести за счет четкой организации дела. Принцип единоличной ответственности и руководства был проведен от начала до конца экспедиции. Он встретил дружную поддержку всех ее участников, Требования, сформулированные основной программой Карской экспедиции в отношении безопасности кораблевождения, также были выполнены. Все это привело к дальнейшему уменьшению страховых сумм. Сократились также сроки пробега судов и сроки перегрузки в сибирских портах. Но самым важным результатом было то, что при большом размахе операций и неблагоприятном в ледовом отношении годе экспедиция прошла вполне успешно.
Льды Карского моря на протяжении десятилетий служили в устах противников Северного морского пути наиболее веским аргументом против тех, кто ратовал за использование этого пути. Теперь каждый новый год приносил убедительные доказательства, что по Карскому морю можно успешно плавать даже в годы повышенной ледовитости.
По методам организации Карские экспедиции до 1928 г. включительно почти не изменились. Однако накопленный опыт позволял совершенствовать многие важные стороны, наметившиеся еще в прошлые годы. Это касалось, прежде всего, научного обслуживания арктической навигации. Карские экспедиции развивались не только как крупные государственные транспортные предприятия, но и как научные организации, объединяющие усилия ученых разных специальностей – гидрографов, гидрологов, метеорологов, геофизиков, географов. Так была заложена прочная основа содружества моряков и ученых, что в дальнейшем стало одной из главнейших отличительных особенностей всей работы по освоению Арктики.
1926, 1927 и 1928 гг. в истории Карских экспедиций прошли под знаком подготовки к еще более широким транспортным операциям. Они явились хорошей проверкой сил и средств, направляемых Советским государством в Арктику, испытанием стойкости полярников, прокладывавших первые пути в арктических морях.