|
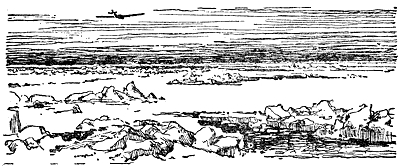 У последних параллелей У последних параллелей
Савва Морозов.
День рождения Матвея Ильича Радист Челышев снял наушники и, держа в руках тонкий, исписанный карандашом листок, шагнул из своей рубки к пилотской кабине. В тесноте он поневоле задел склонившегося над штурманским столом океанолога Трешникова, нагнулся над его ухом и крикнул так, чтобы было слышно в шуме моторов: — Пойдем, тезка, поздравим командира. Нынче ему сорок пять стукнуло! — Да ну, Леша! Вот это здорово! — широкий в кости и худой, еще по-юношески угловатый Трешников поднял голову от карты, отодвинул в сторону цветные карандаши и осторожно, бочком, двинулся по узкому проходу вслед за радистом. Через несколько минут, когда командир воздушного корабля Матвей Ильич Козлов дочитывал поздравительную телеграмму, только что принятую из Москвы от семьи, в пилотской между креслами стоял океанолог — его спутник по воздушной разведке льдов. Трешников одной рукой легонько обнимал Козлова, а другой укладывал перед пилотом под ветровое стекло большое спелое яблоко. В лучах незаходящего полярного солнца оно выглядело особенно румяным. Из-за спины Трешникова выглядывали штурман Штепенко и океанолог Дралкин: — К столу, к столу, командир! — перебивая друг Друга, кричали они Козлову. — По такому случаю подавай именинный пирог.— Спасибо, друзья!—улыбнулся Козлов. — Пирог не пирог, а чайку попить сейчас самое время.
Высоко поднимая ноги, коренастый Козлов перешагнул порог, отделяющий передние светлые кабины от полутемного, расположенного под крыльями жилого отсека. Тут на раскаленной электроплите шумел большой никелированный чайник, и хозяйственный механик Островенко, спустив с потолка подвешенный на стальных тросах столик, открывал банки со сгущенным молоком и пачки галет. — Гостей-то, гостей и впрямь, как на званом вечере! — заметил насмешливый Штепенко, продвигаясь к столику и окидывая взглядом товарищей, сидевших на парусиновых койках вдоль бортов. Были тут и ленинградцы — океанологи Арктического института — обязательные участники воздушной разведки льдов, и работники Главсевморпути из Москвы и Архангельска, и случайный попутчик, подсевший в наш самолет на последней стоянке в Крестах Колымских. Внизу под крылом виднелось пустынное, без единого корабля, Восточно-Сибирское море. Завершая облет трассы Северного морского пути накануне открытия арктической навигации, наша летающая лодка шла от низовьев Колымы к Берингову проливу. Ранним утром мы взлетели с широкой и бурной, по-весеннему разлившейся сибирской реки. Потом мутно-желтые пресные воды и сероватые, темнеющие от таяния снежные пятна в тундре сменились редкими пловучими льдами. А сейчас, под вечер, под нами тянулись уже сплоченные, почти лишенные разводий, ледяные поля и на горизонте синели гористые берега острова Врангеля. Как-то не верилось, что всего только четверо суток назад мы провожали глазами сверкающую под июньским солнцем звезду на шпиле Химкинского речного вокзала. За эти четверо суток мы привыкли к чаепитиям в воздухе за подвесным походным столиком, к обедам, сваренным на скорую руку тут же, на этой вот электроплите. В двадцатичасовых беспосадочных полетах над льдами авиаторы и ученые, поочередно сменяясь на вахтах, отдыхали на тесных парусиновых койках. Назойливый гул моторов стоял в ушах день и ночь. Впрочем, в июне за Полярным кругом разница между днем и ночью чисто условная. Все время в небе стояло солнце — давно уже вступил в свои права многомесячный полярный день. Границы календарных суток постепенно стирались в нашей памяти. Но поздравительная радиограмма из Москвы, адресованная нашему командиру, помогла восстановить сегодняшнюю точную дату: 30 июня 1947 года. — Наверное, который уж раз, Мотя, так-то вот, в дороге, день рождения празднуешь? — посочувствовал Козлову Штепенко. — Что поделаешь, служба такая, — пожал плечами Матвей Ильич, прихлебывая чай из широкой пластмассовой кружки. Помолчав, он добавил в раздумье: — А знаешь, Саша, особенно с круглыми датами везет мне. И, загибая пальцы на руках, начал припоминать прошлые дни рождения, проведенные так же, как и теперь, в полетах. Пять лет назад, в разгар войны, Матвей Ильич летал над Баренцевым морем и Новой Землей, разыскивая суда каравана, атакованного фашистской авиацией. На одной из стоянок в уединенной новоземельской бухте, когда все члены экипажа, съехав на берег, отправились на полярную станцию, Козлов остался один на борту летающей лодки. Прилег отдохнуть, тут же заснул как убитый и... проснулся в ледяной воде. В бухте всплыла на поверхность незаметно прошедшая туда гитлеровская подводная лодка и в упор расстреляла гидросамолет. До берега было без малого полкилометра, и, окажись на месте Козлова кто-нибудь другой, вряд ли удалось бы тому еще раз ступить на землю. Но Матвей Ильич недаром провел юность в Севастополе, недаром брал призы на соревнованиях черноморских пловцов. Закоченев, стуча зубами, он все-таки добрался до берега вплавь. Вспомнился сейчас Козлову и день его тридцатипятилетия, проведенный на ледяном куполе острова Рудольфа. Тогда, летом 1937 года, Москва торжественно встречала Водопьянова и Молокова, Алексеева и Головина — героев завоевания Северного полюса. Мазурук и Козлов, также участвовавшие в экспедиции, остались в Арктике «на папанинской вахте». Около года провели они в архипелаге Земли Франца-Иосифа, готовые по первому сигналу вылететь на помощь отважной четверке. — Эдак по пятилетке назад откладывать будете — скоро и до младенчества доберетесь, Матвей Ильич,—произнес со смешком Островенко, протягивая командиру раскрытый портсигар. — До младенчества, Митя, теперь уж недалеко, — в тридцать втором я полярное крещение принимал. И, откинув со лба густую сизую прядь, пилот пристально посмотрел на своего крепыша-механика. Да, таким вот белозубым, без единой морщинки пришел в свое время в Арктику и он, Матвей Козлов. Скольких переживаний, помнится, стоил первый полет над льдами, как огорчила вынужденная посадка, когда, заблудившись в тумане, неуклюжая «Дарья» (так в просторечии звали в ту пору гидросамолеты «Дорнье») плюхнулась на Вайгаче в окруженное тундрой озеро. — Ну, да что старину ворошить! — отмахнулся Козлов, допивая свою кружку. Но прежде чем поставить ее на стол, он вдруг с задорной улыбкой обратился к Штепенко: — А скажи ты мне, навигатор, который сейчас под нами меридиан? — Сто восьмидесятый пересекаем, — ответил тот. — Порядок, — обрадованно кивнул Козлов, — если так, то, выходит, нет мне еще сорока пяти. День рождения будем праздновать завтра. Все расхохотались шутке командира, вспомнив, что, пересекая 180-й меридиан и попадая в Западное полушарие, мы как бы возвращаемся во времени назад на целые астрономические сутки. Матвей Ильич давно ушел к себе в пилотскую, а мы все еще стояли вокруг столика и толковали о том, какой орел у нас командир и как ловко сумел он нынче перехитрить время. Мы решили завтра в бухте Провидения обязательно заказать в подарок «новорожденному» торт, украшенный двумя вылепленными из теста цифрами: «45» и «15», Пятнадцатилетие непрерывной летной работы в Арктике Матвей Ильич отмечал первым из всех полярных авиаторов. — Хороший, почтенный юбилей, — задумчиво произнес Трешников, — для Советской Арктики последнее пятнадцатилетие — целая эпоха. И тут же, сменив серьезный тон на шутливый, он предложил, чтоб на именинном пироге рядом с юбилейными цифрами обязательно была бы и рельефная карта Северного морского пути с нанесенным на нее маршрутом нашего перелета из Москвы к Тихому океану. И снова все смеялись и, перебивая друг друга, вспоминали подробности этого воздушного рейса. Особенно поразил этот рейс меня, попавшего в Арктику не впервые, но после долгого перерыва. Участник морских полярных экспедиций в тридцатых годах, я помнил, как медлительно и осторожно двигались суда в кильватер ледоколам, как часто останавливались караваны в тумане, как при внезапных подвижках и сжатиях льдов у кораблей трещали стальные ребра — шпангоуты, лопались листы обшивки, обламывались лопасти гребных винтов. Первый поход грузовых судов из Архангельска в устье Лены продолжался более месяца. На обратном пути, остановленный непроходимым льдом, наш караван был вынужден зазимовать. Всегда, помнится, в те времена, уходя летом в Арктику, полярники надолго расставались с Большой Землей — мало ли что может случиться в пути. А теперь, в июне 1947 года, в Москве, приглашая участвовать в ледовой разведке, мой старый знакомый Матвей Ильич Козлов бросил невзначай: — До Провидения и обратно за недельку обернемся, я думаю? — Что? За недельку? Мне показалось, что я ослышался. Преодолеть такое расстояние в столь короткий срок казалось просто невероятным. Я помнил, как проводилась воздушная разведка льдов в тех, давних, морских экспедициях. Вылетая впереди каравана судов, самолет за пять — шесть часов обследовал с воздуха лишь отдельные небольшие участки пути. — Ну вот, что вспомнил, — усмехнулся Матвей Ильич, — так то местного значения, тактические разведки были. А сейчас мы на стратегическую пойдем. Вы поймите только, что это значит — стратегическая. Во всех морях наши ученые лед должны осмотреть. Сразу, так сказать, одними глазами. И что самое главное — заблаговременно, до открытия навигации. Непривычно для меня выглядел старт. Вместо пустынной, окруженной скалами заполярной бухты, памятной по тем далеким довоенным годам, сейчас передо мной сверкало под солнцем подмосковное искусственное озеро. У одного берега, рядом с деревянным плотом, покачивалась большая крылатая лодка. А на противоположной стороне, у гранитных причалов столичного речного порта, по бесконечным лентам транспортеров ползли бочки и ящики со свежемороженой каспийской рыбой. Их только что доставил в Москву рефрижератор, пришедший из Астрахани. Оторвавшись от озерного зеркала, в алмазном веере брызг, наш самолет стремительно уходил ввысь, а внизу неторопливо скользили белоснежные речные трамваи с нарядными дачниками. В то время еще не был выстроен Волга-Дон и Москва считалась портом не пяти, а пока лишь трех морей: Каспийского, Балтийского и Белого. Но воздушный путь из речного порта столицы уже тогда вел прямиком и в Арктику, и к Тихому океану. Глянув вниз, я последний раз полюбовался загорелыми телами спортсменов на трибунах водной станции «Динамо». И тут же внимание мое остановили меховые комбинезоны и болотные сапоги, сложенные на полу нашей кабины под койками. — Сейчас-то жарко, а к вечеру пригодится эта одежда, — заметил сидевший рядом со мной рослый плечистый человек в полурасстегнутом морском кителе. Мы разговорились, познакомились. Кандидат географических наук Алексей Федорович Трешников летел на стратегическую воздушную разведку льдов в составе группы океанологов Арктического института. Вчера только ученые прикатили из Ленинграда «Красной стрелой», а сегодня уже обстоятельно, «всерьез и надолго», устраивались на борту воздушного корабля. Разложив чемоданы и портфели в жилом отсеке, они собирались потеснить Александра Павловича Штепенко. На его штурманском столе, рядом с полетными картами, вскоре должны были появиться широченные листы других карт., на которые наносится ледовая обстановка....... Пока, однако, до льдов было еще далеко, и свободные от вахты океанологи собирались в «блистере» — застекленном кормовом отсеке. Сквозь прозрачные полусферы по бортам летающей лодки было видно далеко окрест. Медленно проплывали внизу изумрудные массивы полей, рябящая под ветром серебристая ширь Рыбинского водохранилища, зубчатые стены дальних лесов, затянутые синеватой дымкой. Остались позади затопленная искусственным морем Молога, окруженный дремучими борами древний Каргополь, и под хмурым облачным небом нам открылась дельта Северной Двины с ее бесчисленными островами. — Левый берег, Бакарица, — вполголоса, точно про себя, отмечал Трешников, поглядывая вниз. — А тут тесновато нынче. В угольной гавани на левобережном участке Архангельского порта, вдоль вымощенных досками причалов Бакарицы, бесконечной вереницей тянулись морские суда. Конечно, с высоты трудно было рассмотреть, как идет погрузка, но несомненно было одно: корабли готовятся к дальним походам в Арктику. Юркие портовые буксиры швартовали к причальной стенке большой двухтрубный ледокол, и над раскрытыми бункерами его разверзались черные ковши грейферных кранов. Другой, похожий, корабль стоял посреди реки, на рейде, видимо, совсем уже готовый к выходу в море. Хоть Архангельск и много севернее Москвы, но и здесь было тепло. Пока самолет пополнял запасы горючего, погода успела разгуляться, выглянуло солнышко, и мы с наслаждением выкупались в Северной Двине. И — снова в воздух. И снова, стремительно мелькая, как в калейдоскопе, сменяются виды внизу. За Мезенью темнозеленый разлив лесов расцвечен кое-где островками нестаявшего снега. За Печорой белесоватая тундра испещрена голубоватыми прожилками вздувшихся, готовых вскрыться рек и ручейков. Пейзаж меняется стремительно, вспять, вопреки календарю. И вот однообразной мозаикой тянутся внизу разреженные частыми разводьями морские льды. Сначала Баренцево, потом, за Вайгачем и Новой Землей, — Карское море. Тут вступили на первую вахту океанологи. Вооружившись цветными карандашами, Алексей Федорович Трешников и Александр Гаврилович Дралкин то и дело поглядывают вниз, склоняясь над разостланным по столу широким листом морской карты. Ученые старательно разрисовывают лист разноцветными линиями, всевозможными геометрическими фигурами. Ромбики, кружочки, треугольники, стрелки, зигзаги. Синие, зеленые, красные. Стоя за спинами ученых, наблюдая их работу, я только диву давался. Немалым опытом, серьезным умением надо обладать, чтобы так быстро и уверенно изображать на бумаге весь тот ледяной хаос, который царит внизу. Вот проплыло заснеженное широкое поле, окаймленное грядами голубоватых торосов. Рядом темнеет полынья. Дальше — мелкие изреженные льдинки, похожие на кусочки сахара, тающие на дне стакана. А Трешников и Дралкин все чертят и чертят свои условные значки, не оставляя свободным ни один квадрат карты. Труд океанологов в ледовой разведке кропотлив и утомителен. Он требует исключительного внимания, сметки, быстроты. Потому-то, подобно командиру корабля, который время от времени передает штурвал второму пилоту, сменяют друг друга на вахте и ученые. Проходит несколько часов, и места Трешникова и Дралкина за картами занимают их товарищи: Павел Афанасьевич Гордиенко и Николай Александрович Волков. Рядом на полетной карте штурман, не торопясь, прокладывает ломаную курсовую черту. Над льдами Карского моря мы поднимаемся к северу, к проливу Маточкин Шар, разделяющему Новоземельский архипелаг. Карское море, отгороженное от теплых струй Гольфстрима скалистым барьером Новой Земли, звали в старину «ледяным погребом». В наши дни здесь начинается великая судоходная трасса, связывающая Запад нашей Родины с Дальним Востоком, кратчайший морской путь между бассейнами Атлантики и Тихого океана. Сметливым хозяйским глазом окидывает советский человек бескрайние просторы ледяных полей, движущиеся по морям по воле ветра и волн. Год от года все глубже познаются наукой закономерности арктической природы. Исследуя морские и воздушные течения, наши ученые предвидят пути дрейфа льдов, заранее определяют возможное распределение ледяного покрова по обширной акватории полярных морей. И в соответствии с этими сведениями планируются перевозки грузов, развитие судоходства, а значит, и все народнохозяйственное освоение Крайнего Севера. Когда Трешников, сменившись со своей вахты над картами и отдохнув часок, выходит в застекленный кормовой отсек покурить, мы подробно беседуем с ним о ледяных массивах Арктического бассейна. Много интересного рассказывает мне ученый. Сейчас, например, под нами молодой и не очень сплоченный лед местного Новоземельского массива. Зимой он образует неподвижный береговой припай, а в летние месяцы сильно подтаивает и даже иногда, в наиболее теплые годы, исчезает вовсе. Но стоит подняться дальше к северу и северо-востоку, и мы попадем в район, где часто встречаются тяжелые льды так называемого Таймырского ледяного массива. Ответвляющийся от ледяного покрова центральной части Северного Ледовитого океана, он как бы вытянут к югу вдоль восточных берегов Северной Земли и Таймырского полуострова. Подобные массивы мы встретим и на западе у берегов Гренландии, и на северо-западе у Земли Франца-Иосифа, и на востоке — близ острова Врангеля, у острова Айон, у Чукотского побережья. Все эти массивы связаны с ледовым покровом центральной части Арктического бассейна, и в них, наряду с молодым годовалым льдом, образовавшимся за последнюю зиму, немало мощного, многолетнего пака — торосистых ледяных полей, спрессованных сжатиями, скованных морозами, отточенных ветрами. Непрестанно дрейфуя, двигаясь под влиянием ветров и течений, лед этих массивов в разные периоды времени бывает более или менее сплоченным. Но расположение массивов по акватории полярных морей подчинено определенным закономерностям: пространства дрейфующего льда чередуются с пространствами чистой воды. — Хозяйство наше и обширное, и сложное, — говорит Алексей Федорович,— а наука о морских и океанских льдах пока еще очень молода. Да, многое из того, о чем рассказывает ученый, еще не записано в печатных трудах по океанологии. И кандидатские диссертации, защищенные в последние годы Трешниковым и его товарищами — Дралкиным, Гордиенко, Волковым, — основаны на материалах, собранных на оперативной работе по обслуживанию мореплавания, на воздушной разведке льдов — в таких вот полетах, как наш нынешний. Показывая рукой вперед, к северу, туда, где у горизонта пловучие льды сливаются в сплошную белесую стену, Трешников продолжал: — Лед — самый главный враг полярного мореплавания. Массивы эти, которые спускаются сюда, в прибрежные мелководные моря, можно уподобить передовым отрядам противника. Главные же силы его — резервы, тылы — там, на севере, в высоких широтах. И если мы хотим по-настоящему изучить своего врага, нам надо проникнуть туда, в центр Арктики. Молодые ученые-океанологи трудятся над изучением и освоением Арктики рука об руку с ветеранами — практиками полярной авиации, такими, как наш командир Матвей Ильич Козлов, как наш штурман Александр Павлович Штепенко. Вот уже более полусуток длится беспосадочный полет над льдами. Как ни велики запасы горючего на летающей лодке, но надо когда-то их пополнять. От Маточкина Шара курсовая черта на полетной карте устремляется теперь на юг, к Енисейскому заливу, и дальше — вдоль Енисея к Игарке. В разрывах облаков мелькает внизу арктический порт на острове Диксон. Над бухтой, еще одетой льдом, нависли стрелы грузовых кранов, из труб зимующих рейдовых судов валит дым. По всему видно: скоро и здесь откроется навигация. Провожая глазами тянущиеся внизу ряды двухэтажных домов, я вспоминал, каким был этот самый Диксон в тридцатых годах, — всего три избушки стояло тогда на пустынном скалистом берегу. От Диксона до Игарки сотни километров, но по северным масштабам эти два порта считаются соседями. Ни один морской пароход, идущий с Запада, из Европы, за первосортным игарским лесом, не минует на своем пути Диксон. И любой речной караван, плывущий от Игарки вниз, выходящий из реки в залив, обязательно сделает остановку на диксоновском рейде. С воздуха незаметно, как воды залива сменяются безбрежным разливом Енисея. Река-богатырь, воспетая в песнях и былинах, изумительная по мощи и красоте, завершает здесь, у студеного моря, долгий путь от Саянских гор. Енисей, текущий в низовьях по каменистому руслу, в отличие от большинства сибирских рек, не имеет в своем устье «бара» — песчаной, образуемой наносами, отмели. Благодаря этому крупные морские суда не только беспрепятственно входят в устье, но и поднимаются вверх до самой Игарской протоки. Говорят, что когда-то, «во время оно», тут, на границе тайги и тундры, поселился беспрозванный раскольник Егорка. Не поладив с православной церковью и царской полицией, он ушел за Полярный круг искать «своего мужицкого бога». На высоком берегу протоки, защищенной от ветров островом, Егорка поставил зимовье, начал рыбачить, промышлять зверя и, породнившись с эвенками, незаметно превратился в «Игарку». Когда Егорка — Игарка помер, потомки его пошли дальше на север, затерялись среди кочевых племен тундры. Зимовье стояло заброшенным не один десяток лет. Накануне первой пятилетки гидрографы-изыскатели, присланные Советской властью, промерили в Игарской протоке глубины и нашли, что именно здесь надо создавать морской порт для экспорта сибирского леса. За гидрографами пришли строители. Они только еще забивали сваи будущих причалов, а с запада, из портов Европы, сюда уже потянулись вереницы морских судов. Навстречу им, с Ангары, плыли километровые плоты. Пока на берегу ставили лесопильные рамы, на экспорт шел «кругляк» — сибирскую сосну и лиственницу грузили прямо из воды в пароходные трюмы. А там задымили лесозаводы, и с енисейского рейда грузовые работы перешли на причалы. Игарка стала городом — первенцем индустриализации Заполярья. С той поры минуло почти два десятилетия. И ныне, летом 1947 года, подлетая к деревянному северному городу на Енисее, я поразился особенно заметным с воздуха черным квадратам вспаханной земли, которые виднелись по соседству почти с каждым домом. Было время — новоселы Игарки болели цынгой из-за недостатка витаминов и с нетерпеливой надеждой поглядывали на соседний, расположенный за протокой остров, — там создавался первый в сибирском Заполярье молочно-животноводческий совхоз. А теперь почти у каждой игарской семьи — свой огород, у многих — коровы и козы. После того как наш гидросамолет опустился в Игарском аэропорту, мы поехали в город на машине. Газик-вездеход запрыгал по дощатой мостовой, и скоро за поворотом дороги открылся городской рынок. Под навесами на тесовых прилавках высились горы картошки, стояли бидоны с молоком. Против гостиницы летчиков — домика с открытой террасой, на потемневшей от времени бревенчатой избушке я прочитал вывеску: «Министерство связи. Почтовое отделение «Медвежий лог». — Экая древность, — усмехнулся Матвей Ильич, выходя из машины, и пояснил мне: — Не раз сюда медведи из тайги забредали, помнится. А жили тут в палатках строители, такой переполох поднимался, бывало, ужас... По графику нашего полета стоянка в Игарке рассчитана на четыре часа. Умывшись и пообедав, механики пополняли запасы горючего, проверяли моторы, а все остальные во главе с командиром растянулись на мягких постелях. — Жаль, времени нет старых друзей навестить, — сказал Матвей Ильич, готовясь уснуть. — Тут в Игарке у меня дом родной. И он тепло вспомнил учительницу, заведующую педагогическим училищем народов Севера, и театрального режиссера — руководителя местного театра. Учительницу Козлов знал еще пятилетней девочкой, в ту пору, когда вместе с отцом-плотником она жила в одном из первых бараков. Режиссер-москвич, не раз был пассажиром на самолете Козлова. После короткого отдыха в Игарке начинался следующий, второй, маршрут нашей экспедиции, следующий галс воздушной разведки льдов. Теперь за 19—20 часов полета мы должны были побывать на севере Карского моря и над архипелагом Северной Земли. Сибирский берег остался далеко позади, и снова под нами плыли льды. Сначала, освещенные ярким солнцем, они были хорошо видны с высоты. Но потом низкая облачность прижала нас к самой воде, Козлов перешел на бреющий полет, и гряды торосов, чередуясь с темными окнами разводий, слились в беспорядочном мелькании. Маленькая приземистая фигура Матвея Ильича глубоко ушла в пилотское кресло. Короткие ноги в высоких болотных сапогах твердо стояли на педалях, точно существуя независимо от туловища. Низко на глаза, защищенные темными очками, надвинут широченный козырек суконной жокейской шапочки. В углу рта зажат потухший окурок. Нет, отнюдь не геройский, удивительно будничный вид у нашего командира за штурвалом. Словно не в дальний рейс над льдами ведет он воздушный корабль, а так себе — едет на дачу в пригородной электричке. Но стоит хоть мельком глянуть на руки пилота, и они тотчас же привлекут внимание спутника. Мягко и неторопливо, но вместе с тем уверенно, властно передвигаются по черному полукругу штурвала тонкие нервные пальцы. Просвечивают из-под смуглой кожи синеватые вены. — Глядите, будто не машину ведет, а на рояле играет, — заметил как-то Трешников, когда мы вместе заглядывали в пилотскую кабину. Помолчав с минуту, ученый добавил с восхищением: — Если бы не был пилотом, наверное, музыкантом стал бы наш Матвей Ильич. Да, большим творческим напряжением живет в воздухе бывалый авиатор. Волнующей романтикой странствий овеян наш дальний полет. Не раз сменятся пилоты за штурвалом, механики у моторов, океанологи над картами, не раз пасмурное небо станет безоблачным и снова затянется облаками, пока внизу покажется мыс Желания — северная оконечность Новой Земли. Еще два часа полета в слепящем снегопаде — и внизу сероватым плоским пятном мелькает остров Визе — крохотные, похожие на карточные домики строения полярной станции. Ничем внешне не приметный, островок этот замечателен историей своего появления на географической карте. 35 лет назад в этих местах дрейфовала зажатая льдами русская шхуна «Святая Анна». Позднее в высоких широтах шхуна погибла. Только двум членам ее экипажа удалось спастись. Дойдя по дрейфующим льдам до Земли Франца-Иосифа, измученные, истощенные моряки были встречены там спутниками недавно погибшего Георгия Седова. Прошло десять лет. Изучая карты дрейфа «Святой Анны», спутник Седова советский океанолог В. Ю. Визе пришел к выводу, что на севере Карского моря на пути погибшего судна должен находиться остров. Предположительно, основываясь на теоретических расчетах, Визе нанес этот остров на карту. Наступила пора изучения и освоения Советской Арктики. Ледокольный пароход «Георгий Седов» вез экспедицию к берегам Северной Земли. И тогда научный руководитель экспедиции профессор Владимир Юльевич Визе впервые воочию увидел «свою» теоретически открытую землю. В нашем полете остров Визе — крайняя северная точка маршрута. Отсюда летающая лодка ложится курсом на восток к полярной станции острова Домашний. Тоже памятное, знаменательное место. На небольшом этом островке в августе 1930 года с борта «Седова» высадились четыре советских полярника во главе с Георгием Алексеевичем Ушаковым. Два года провели они тут, тысячи километров прошли на собачьих упряжках, нанося на карту обширный архипелаг Северной Земли, превышающий площадью такие европейские государства, как Бельгия или Голландия. Потом, когда на остров Домашний прибыла следующая, вторая, смена зимовщиков, навестить их прилетел первый самолет с Большой Земли. Пилотом этого самолета был Матвей Ильич Козлов. Нынешний рейс к Северной Земле — едва ли не сотый в послужном списке нашего командира. Сделав круг над зимовкой Домашнего, приветливо качнув крыльями, Козлов ведет машину курсом на юг, к материку, знакомой «проторенной» дорогой. Мы пересекаем торосистые нагромождения льдов в архипелаге Норденшельда, безлюдную тундру Западного Таймыра, широкую многоводную Пясину. И словно мираж в пустыне, у подножий невысоких гор возникают кварталы многоэтажных каменных домов, дымящие трубы. Нет, это не мираж! Это новый современный город — Норильск. Младший брат Игарки, он обогнал ее и темпами развития, и благоустройством. Если деревянную Игарку называют «Сибирским Архангельском», то Норильск по внешнему виду можно сравнить с Мурманском. Правда, Мурманск стоит у незамерзающего залива, от его причалов круглый год открыта дорога в океан, а Норильск окружен горами и тундрой. Добрые полчаса летим мы над плоской равниной, прочерченной рельсами и линией телеграфных столбов, обгоняем поезда и маневровые паровозы. Эта первая в сибирском Заполярье железная дорога, связывающая Норильск с Дудинкой на Енисее, обязана своим рождением Северному морскому пути. По ледовым морям в трюмах и на палубах пароходов прибыли сюда рельсы, локомотивы, вагоны. И вместе с ними пришла новая жизнь. Некогда безвестное северное село Дудинка — центр Таймырского национального округа — стало крупным морским портом. Так хотелось бы ближе познакомиться с этим краем, побродить по улицам Норильска и Дудинки, прокатиться в поезде заполярной железной дороги. Но для этого, увы, надо расстаться с самолетом, прервать увлекательное воздушное путешествие над льдами морей. Нет, не стоит расставаться, полетим дальше! И Дудинка, точно так же, как вчера Игарка, послужила нам лишь кратковременной остановкой в пути на восток. Строго придерживаясь расписания, Козлов продолжал рейс. Мы летели над невзломанным льдом пролива Вилькицкого, садились на широких речных плесах Хатанги и Индигирки, ходили долгими галсами над затянутыми облачной пеленой островами Делонга. Послушная пилотам машина то упорно взбиралась на высоту, пробивая туман, то мчалась бреющим над самыми торосами. Капли влаги ползли по стеклам кабин, мельчайшие кусочки льда, срываясь с плоскостей, барабанили по фюзеляжу. От непрерывного гула в ушах болела голова, и на узкой парусиновой койке было тесновато вдвоем (коек на самолете всего три, а нас — членов экипажа и пассажиров — как никак, шестнадцать человек). Но ко всему этому мы притерпелись за четверо суток воздушного пути. Большая, вместительная летающая лодка стала для нас крылатым домом. И, конечно, такое событие, как день рождения «хозяина» — Матвея Ильича, — обрадовало всех. Итак, близился к концу последний маршрут, последний двадцатичасовой галс от низовьев Колымы до берегов Тихого океана. Мы заранее предвкушали заслуженный отдых, готовились к своему небольшому, так сказать, «семейному» торжеству. Но до торжества оказалось еще очень далеко. * Мы пересекли 180-й меридиан и в Западном полушарии обогнули с востока остров Врангеля. Матвей Ильич провел самолет над торошеными льдами пролива Лонга, над темной громадой мыса Шмидта. На горизонте проступили зигзагом вершины Чукотского хребта, когда погода начала портиться. Сероватая дымка все плотнее затягивала и прибрежные скалы, и торосистые неровности морского льда. Остров Колючие нам с трудом удалось увидеть сквозь сгущающийся туман. По расчету времени приближался Берингов пролив, когда из окна кабины нельзя было рассмотреть оконечности крыльев. Густые испарения свободного от льдов моря плотной сырой завесой окутывали все внизу. И когда самолет лег курсом на юг, никто на борту его не решился бы определенно сказать, что под нами сейчас: обрывистый мыс Дежнева, низменная песчаная коса Уэллен или пролив, разделяющий Азию и Северную Америку. Белая стрелка альтиметра бежала по черному циферблату назад, отсчитывая непрестанное уменьшение высоты. Стрелка задержалась на цифре 100, когда внизу сквозь поредевшую кисею тумана проглянула темная вода. Тихоокеанский скалистый берег Чукотки едва угадывался справа, едва проглядывал узенькой полоской из-под тяжелой облачной шапки. «Вход в бухту закрыт», — такую депешу только что принял из Провидения хмурый, озабоченный Челышев. Пробежав радиограмму глазами, Козлов покачал головой. Горючего в баках оставалось на какой-нибудь час, а до Анадыря — следующего за бухтой Провидения пункта посадки — лететь предстояло часа полтора, самое меньшее. Может быть, сесть на воду и, превратив крылатую лодку в морской корабль, рулить по волнам в поисках входа в бухту? Нет, и это невозможно. Поверхность Берингова моря рябила редкими пловучими льдинами. Садиться среди них можно было только с риском пропороть днище гидросамолета. На бреющем, при поворотах едва не касаясь крыльями воды, гидросамолет кружил над морем. Тщетно напрягая зрение, старались мы разглядеть вход в узкую, стиснутую скалами, бухту. Туман начинал сгущаться и внизу, у поверхности воды. Козлов набрал высоту более тысячи метров, но и там не пробил облачности. Начиналось обледенение. Казалось порой, что самолет не летит, а висит в липкой киселеобразной массе. Сколько еще удастся так провисеть? Горючего хватит на 30—40 минут, а туман может простоять сутки. В эти мгновения я остро завидовал членам экипажа, занятым своими, привычными и нужными в полете, делами. И от души сочувствовал ученым, которые, закончив заполнение ледовых карт, томились вынужденным бездельем. Люди по-разному скрывали волнение. Один, обычно куривший очень редко, теперь уничтожал папиросу за папиросой. Другой, всегда молчаливый, начал вдруг громко декламировать, потом запел. Третий яростно тасовал засаленную колоду карт, назойливо предлагая товарищам «перекинуться в дурачка». И все мы с тайной надеждой заглядывали в неплотно притворенную дверь пилотской, туда, где за спинкой кресла скрывалась маленькая приземистая фигурка Козлова. Вдруг гул моторов сменился приглушенным шипением, и команда, поданная высоким гортанным голосом Штепенко, прозвучала особенно отчетливо: — Не двигаться. Сидеть по местам! Под крылом, в просвете между облаками, глубоко, как на дне колодца, мелькнула полоска воды. Машина резко наклонилась на нос. Ловя мгновения, пока облака не сомкнутся вновь, Матвей Ильич круто, почти отвесно, снижался к воде между скал, с которых тут и там рваными клочьями сползал туман. Вот днище лодки коснулось поверхности бухты, и, пробежав сотню другую метров, наш гидросамолет мягко закачался на волнах прибоя. Пробравшись через тесный жилой отсек, Козлов и Штепенко вышли в застекленный блистер размяться, покурить. — Ну, Мотя, голубчик, по второму разу тебя с днем рождения, — выпалил штурман скороговоркой и крепко поцеловал командира. — Летать тебе, Мотя, теперь до ста лет! Как оказалось, наша вынужденная посадка произошла в соседней с бухтой Провидения бухте Ткачен. Только через полсуток мы, пассажиры, выбрались отсюда на катере, а Козлов с механиком Островенко на облегченной машине смогли перелететь к месту назначения. На крутых бурых склонах сопок, окружающих бухту Провидения, лежал еще снег, а у портового причала уже стоял ледокол, только что пришедший из Владивостока. Следом за ледоколом-лидером сюда — к восточным воротам в Арктику — подтягивались морские караваны, следующие с грузами в устья Колымы, Индигирки, Лены, суда, идущие сквозными рейсами на запад по Северному морскому пути. Разумеется, летчики и ученые, только что прошедшие всю эту трассу с воздушной разведкой льдов, были встречены на борту ледокола как дорогие, почетные гости. Просторная, отделанная дубом, обставленная мягкой мебелью кают-компания показалась нам дворцом после тесной, пропахшей бензином, стальной коробки самолета. Седоусый, краснолицый капитан — давний приятель Козлова — очаровал всех своим радушием. — Теперь-то уж грех не погулять, — заявил он, услышав от нас о дне рождения Матвея Ильича, и тут же предложил заказать судовому коку именинный пирог, чтобы хоть с опозданием, но все-таки отметить праздничную дату. Но Козлов только руками замахал: — Некогда, братцы, сейчас некогда. С этой вынужденной посадкой мы почти на сутки из графика выбились. Теперь в обратный путь пора. Нас еще и в Архангельске ждут. И он кивнул в сторону ученых, которые уже успели разложить на столе свои ледовые карты и совещались со штурманом Штепенко, обсуждая различные варианты обратного пути. — На запад высокими широтами пойдем, — утвердительно сказал Козлов, — там тоже надо ледок посмотреть. И разговор зашел о последних параллелях Северного полушария, о далеких краях «белых пятен», так мало еще известных науке. Кто-то вспомнил, что совсем недавно на весенней воздушной разведке льдов к северу от Берингова пролива летчик Крузе обнаружил огромный ледяной остров, вначале принятый за неизвестную землю,— Земля Робинзона Крузе, — подмигнул океанолог Гордиенко и под общий хохот предложил преподнести «новый остров» в подарок Козлову ко дню рождения. — Смех смехом, а немало еще открытий ждет нас в высоких широтах! — убежденно произнес Трешников. Козлов с доброй понимающей улыбкой оглядел взволнованные лица молодых ученых и многозначительно произнес вполголоса: — Дайте срок, друзья, всему свое время. Возвращаясь с ледокола к стоящему на якорях гидросамолету, мы любовались гористыми берегами бухты, усеянными множеством новых строений. Жилые дома и склады, здания школы и клуба приятно желтели своими свежесрубленными стенами. В холодном воздухе стоял крепкий смолистый запах сосны. Самый северный тихоокеанский порт вырастал тут, на краю советской земли. В бухте Провидения мы оставили на борту ледокола двух океанологов, которым предстояло работать всю навигацию в штабе морских операций Восточной Арктики. Зато в обратный путь к столице с нами летел новый попутчик — сын начальника здешнего порта. Только что окончив десятилетку в бухте Провидения, он торопился на вступительные экзамены в Московский Университет. Продолжая беседу, начатую на ледоколе, мы говорили о том, как воздушный транспорт сближает далекие северные окраины со всей страной, о том, как на наших глазах меняется география Родины. — И подумать только, что немногим более тридцати лет назад в этой самой бухте пытался подняться в воздух первый в Арктике самолет, — сказал Штепенко, — пытался, но так и не взлетел. — Постой, постой, когда это было? — наморщил лоб Козлов и тут же сам себе ответил: — Ну да, конечно, в тысяча девятьсот тринадцатом, во время плавания «Таймыра» и «Вайгача». Да, первая эта попытка окончилась неудачей. Но уже через год Нагурский близ Новой Земли взлетел над льдами. Матвей Ильич на минуту замолк, обвел всех нас взглядом и закончил: — Так, если все припомнить, то знаменитая у нас родословная, братцы...
далее: Родословная крылатого племени |
